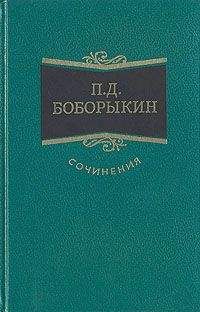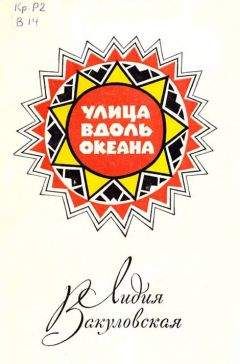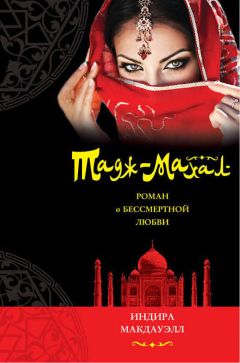Все смотрело и сегодня, как тому быть следовало.
Иван Алексеич оглядывал публику, попивая холодный, бьющий в нос, мутноватый квас. Вот и барыня. Она опорожнила три стакана квасу после полуфунтового ломтя ветчины и четырех пирожков и собирает покупки. Барыне лет под сорок. Она нарумянена. Это видно из-под вуалетки. Нос и лоб ее лоснятся от испарины. Губы сжаты так, как они сжимаются у обедневших помещиц, желающих во что бы то ни стало поддержать "положение в обществе". Пирожков узнал ее. Они встречались в одном доме, где ее терпеть не могли, но принимали запросто.
Барыня, должно быть, не разглядела Пирожкова. Она встала, прикрикнула на мальчишку, заставила его подать себе корзину и пошла к дверям. Он привстал и сказал ей:
— Bonjour, madame![10]
Она вся выпрямилась, громко ответила ему: — Bonjour, monsieur,[11] - и, отворотясь, вышла из лавки.
Разносчик с простывшими наполовину пирожками опять вырос перед ним. Иван Алексеич съел один с яблоками, повторил с вареньем. Это заново зажгло у него жажду. Он спросил вишневого квасу и выпил его две кружки. Желудок точно расперло какими-то распорками: поднимался оттуда род опьянения, приятного и острого, как от шампанского. Наискосок от него, за стеклянной дверью, другой разносчик наклонился над доскою, служившей ему столом, и крошил мозги на мелкие куски; посолив их потом, положил на лист оберточной бумаги и подал купцу вместе с деревянной палочкой — заместо вилки — и краюшкой румяной сайки.
Слюнки полились у Ивана Алексеича. Он позавтракал, ел сейчас сладкое, но аппетит поддался раздраженью. Гадость ведь в сущности это крошево на бумаге. А вкусно смотреть. За вишневым квасом пошли кусочки мозгов. За мозгами съедены были два куска арбуза, сахаристого, с мелкими, рыхло сидевшими зернами, который так и таял под нёбом все еще разгоряченного рта.
Выйдя на Никольскую, Иван Алексеич придавил себя пухлой ручкой по животу, под правым ребром.
"Что же это я?.. От безделья?!"
И ему стало стыдно.
Никольская была ему достаточно знакома. Студентом он покупал и продавал книги в лавке Ивана Кольчугина. Сюда же, в другую лавчонку, продал он перевод книжки по технологии еще на первом курсе. За лист заплатили ему по семи рублей. Тогда он перебивался; из дому получал не всегда аккуратно. Вот и лавка старого серебряника. За стеклом стоят позолоченные солонки русского образца, с крышкой и круглые — для подношения «хлеба-соли». Не лучше ли вот это изучать, чем засиживаться в квасной лавке? Тут народный вкус, рисунок, свеобразное изящество…
Но Ивану Алексеичу показалось, что солонку, которую он в эту минуту рассматривал, он уже торговал раз, года два тому назад. Ему помнилось, что она не серебряная, а медная, позолоченная. Вот он спросит.
— Солоночка-то, — обратился он к приказчику, — вот эта, около образа Николая Чудотворца, какая ей цена?
— Три с полтиной!
"Три с полтиной! — думал он. — Разумеется, не серебряная. С первого слова и такая цена!.."
— Да она из чего?
— Бронзовая-с… Через огонь золоченная.
Так и есть: он не ошибся. Вот и зеленоватое пятнышко на створчатой крышке от времени. И его он вспомнил.
— Штиблеты лаковые!.. Господин! Штиблеты! — окачивал его крикливым тенором «носящий», в резиновых калошах на босу ногу, с испитым лицом, подтеками на виске и в халате.
"Не купить ли?" — Иван Алексеич испытывал ощущение малодушного позыва к покупкам, так, по-детски, чего-нибудь… По телу внутри разлилась истома; всего приятнее было останавливаться почаще, перекинуться парой слов, поглядеть… А покупка все как будто дело…
— Цена? — спросил он кротко-смешливым тоном, хорошо известным его приятелям.
— Шесть рублей, господин!
— Будто? — продолжал Иван Алексеич в том же тоне.
Ему припомнилась сцена из английского романа в русском переводе, где юмор состоит в том, что спрашивали: "Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэр?" И опять: "Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэр?" В Лоскутном они целую неделю «ржали», отыскав этот отрывок, и беспрестанно повторяли друг другу: "Что вы желаете за эту чрезвычайно маленькую вещь, сэр?"
— Шесть рублей — никогда!.. — дурачился Иван Алексеич.
— Для почину — четыре!.. Нынче праздник, господин…
— Какой это?
— Опохмеленья! — И халатник показал зеленые зубы.
Не купить ли в самом деле? Он отдаст за три рубля. И тотчас перед Пирожковым всплыла, как живая, сцена: товарищ его, Чистяков, теперь адвокат, выдержал экзамен и на радостях купил у «носящего» такие вот «штиблеты». И в тот же день в Сокольниках одна из ботинок располыснулась от носка до щиколки, и он остался в носках. Тоже какой был хохот! И умные, искристые, полные комизма глаза покойника Шуйского виднеются ему со сцены, в пьесе, переделанной с французского, где он приходит в меховой шапке, купленной у «носящего» в городе. И как он художественно играл ощущенье страха, когда явилось у него пятно на руке и он уверился, что заразился от шапки! Давно это — еще гимназистом видел.
— Не надо, голубчик, — сказал Пирожков уже серьезно халатнику.
"Носящий" начал приставать. Чтобы отделаться от него, Иван Алексеич перебежал улицу против лавки с тульскими изделиями. Медь самоваров, охотничьих рогов, кофейников, тазов слепила глаза. Ему показалось, что тут много новых вещей, каких прежде не делали. Он поднялся в лавку. Теперь его еще больше щемило неудержимое, совсем детское желание что-нибудь купить. С полки выглядывало несколько садовых шандалов с пыльными колпаками. Вечера еще стояли теплые. В номерах, где он живет, — балкон. Недурно оставаться подольше на балконе.
— Сколько стоит?
— Рубль семь гривен.
Поторговались. Шандал куплен за рубль пятнадцать копеек. Нести его очень неловко. Иван Алексеич опять перешел улицу, поравнялся с бумажными лавками в начале «глаголей» гостиного двора. Захотелось вдруг купить графленой бумаги и записную книжку. Это еще больше его затруднило; но он успокоился после этих новых покупок.
Вышел он на Красную площадь. День еще потеплел после полудня. Свет вместе с пылью так и гулял по длинному полотну мостовой — от Воскресенских ворот до Василия Блаженного. Направо давит красная кирпичная глыба Исторического музея, расползшаяся и вширь и вглубь, с ее восточной крышей, башнями, минаретами, столбами, выступами, низменным ходом. На расстоянии — Пирожков нарочно отошел влево, ближе к памятнику — музей нравился ему теперь гораздо больше, чем не так давно. Он мирился с ним. Прежде он почти негодовал, находил, что эта "груда кирпича" испортила весь облик площади, заперла ее, отняла у Воскресенских ворот их стародавнюю жизнь.
Глаз достигал до дальнего края безоблачного темнеющего неба. Девять куполов Василия Блаженного с перевитыми, зубчатыми, точно булавы, главами пестрели и тешили глаз, словно гирлянда, намалеванная даровитым ребенком, разыгравшимся среди мрака и крови, дремучего холопства и изуверных ужасов Лобного места. "Горячечная греза зодчего", — перевел про себя Пирожков французскую фразу иноземца-судьи, недавно им вычитанную.
Птицы на головах Минина и Пожарского, протянутая в пространство рука, пожарный солдатик у решетки, осевшийся, немощный и плоский купол гостиного двора и вся Ножовая линия с ее фронтоном и фризом, облезлой штукатуркой и барельефами, темные пятнистые ящики Никольских и Спасских ворот, отпотелая стена с башнями и под нею загороженное место обвалившегося бульвара; а из-за зубцов стены — легкая ротонда сената, голубая церковь, точно перенесенная из Италии, и дальше — сказочные золотые луковицы соборов, — знакомые, сотни раз воспринятые образы стояли в своей вековой неподвижности… Площадь полна была дребезжанья дрожек и глухого грохота тяжелых возов. Пешеходы и дрожки тянулись вниз к Москве-реке и по двум путям в Кремль. Седоки и извозчики снимали шапки, не доезжая Спасских ворот. Из Никольских чаще спускались экипажи с господами.
"Мужик, артельщик, купец, купчиха, адвокат", — считал Пирожков и минут с десять предавался этой статистике. В десять минут не проехало ни одной кареты, не прошло ни одной женщины, которую он способен был назвать "дамой".
Его точно тянуло в Кремль. Он поднялся через Никольские ворота, заметил, что внутри их немного поправили штукатурку, взял вдоль арсенала, начал считать пушки и остановился перед медной доской за стеклом, где по-французски говорится, когда все эти пушки взяты у великой армии. Вдруг его кольнуло. Он даже покраснел. Неужели Москва так засосала и его? От дворца шло семейство, то самое, что завтракало в "Славянском базаре". Дети раскисли. Отец кричал, весь красный, обращаясь к жене:
— Мерзавцы! Канальи! Везде грабеж!
"И я — из их породы, — подумал Иван Алексеич, — и я направляюсь, должно быть, в Оружейную палату?"