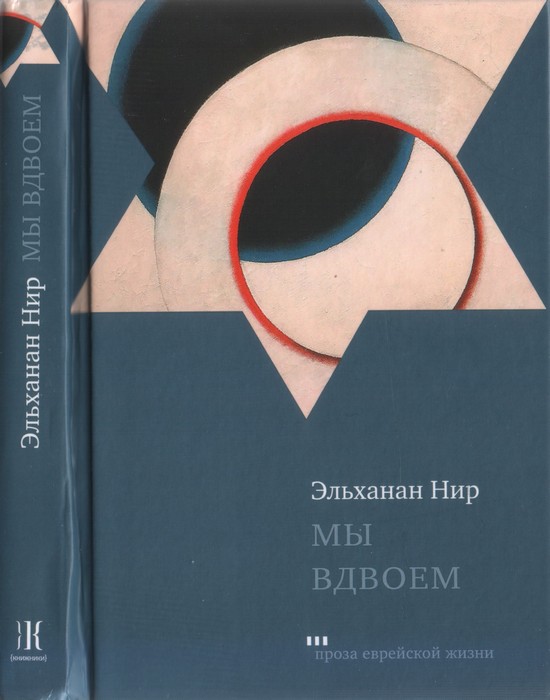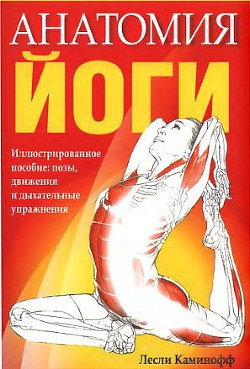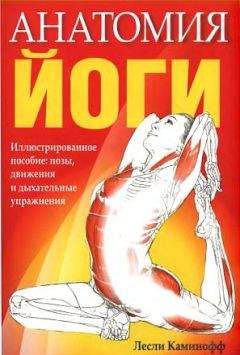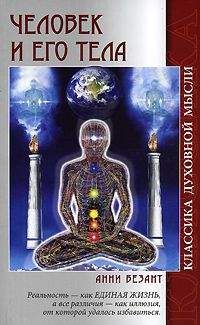рубашки на голубые и сиреневые — что должно было продемонстрировать всем: он всерьез отказался от статуса раввина.
С тех пор будто по чьему-то приказу Эммануэли потушил горевшую в нем страсть и, к ужасу Анат, превратился в «усталого и любящего Тору семейного человека» без капли живого духа. Он почта не занимался, уж точно не совершал никаких открытий в Торе, ни великих, ни малых, ни в мистике Колесницы [37], ни в толкованиях Абайе и Равы [38]. Он просто вставал утром, шел на работу, возвращался, принимал ванну и шел спать — а как же Избавление, а как же пробуждающаяся Тора Земли Израиля, которая выведет народ свой из изгнания?
После смерти Идо и происшествия с равом Гохлером семья перебралась в Иерусалим, на улицу Йордей-ѓа-Сира. Отец прозвал внезапно изгибающуюся, узкую и тесную улицу «поселением в городе». То, что они обосновались на ней, было в некотором роде достижением, почти как проживание в успешном поселении Беэрот — символом высокого положения, семейной стабильности, традиционной и тщательной религиозности. Однако, в отличие от Беэрота, здесь была готовность принять странности в рамках приличий. Улица Йордей-ѓа-Сира позволяла чувствовать себя свободно и расслабленно, ведь там не было раввина поселения, комиссий по культуре и абсорбции, по религии и просвещению и еще почти двух десятков самых разных комиссий, которые непременно собирались по средам ночью в комнатках старого здания управления Беэрота и бесконечно рассуждали о том, как обустроить повседневную жизнь, что делать с молодежью, как быть с новым требованием, чтобы женщины читали кадиш [39] — и это только начало, поди знай, чем кончится такая скользкая дорожка. Мало того, на улице Йордей-ѓа-Сира не было и баланит [40], которой известно в точности, когда каждая женщина посещает микву [41], то есть беременна ли она, и когда она перестает приходить и почему. Не было и казначея, который знал (притом никто не понимал откуда), сколько каждый зарабатывает. Йордей-ѓа-Сира была поселением со всеми его достоинствами, но без недостатков, поделился как-то Эммануэль еще одним умозаключением, прежде чем вновь погрузиться в молчание.
Мать ушла с работы, сказав, что ей скоро пятьдесят один год, пора изменить свою жизнь и не упускать подворачивающиеся возможности — ведь когда в гериатрической палате ее станет пожирать деменция, поздно будет вспоминать о себе и своих мечтах. Даже речь ее стала более эмоциональной: почти в каждом разговоре с ее языка лились глаголы из разряда «скучать», «любить», «чувствовать» и «прислушиваться». Поначалу они звучали натянуто, застревали, как у подростка, который учится говорить на языке взрослых и еще не умеет правильно вворачивать их выражения, но вскоре стали органичными, будто она всегда их произносила. Йонатану даже показалось, что она стала больше его ценить, видит в нем возможную замену предыдущей своей страсти, Идо, но ее поведение было нерешительным, в нем не было самоотдачи. Да и продлилось это недолго, так как ее все дальше уносил бурный поток религиозного пыла и кропотливый труд возведения мини-храма Идо в их иерусалимской квартирке, что наполнялась фотографиями из короткой жизни святого благословенной памяти Идо Лехави. Огромные поминальные свечи и выдержки из Псалмов сделали и без того небольшую гостиную тесной, угнетающей, и главное — пугающей.
Упрямую прядь волос, когда-то вызывающе торчавшую из-под края ее головного убора, мать всегда теперь убирала, постоянно твердила параграфы из мишнаитского [42] трактата «Бава кама» («Это трактат Идо», — говорила она печально и гордо) и начала сочинять молитвы к каждому мероприятию, которое посещала: молитву за успех свадьбы, молитву за успех младенца, молитву за успех в постоянстве. Каждую неделю она вслух читала всю книгу Псалмов, разделенную на главы по дням, нашла у Йонатана в книжном шкафу брацлавские [43] книги и принялась писать рифмованный пересказ для детей сказки рабби Нахмана о потерянной принцессе. Иногда звонила Йонатану спросить, что рифмуется со словом «тоска», только нужно детское слово, а не университетское, и хорошая ли рифма — «тайна-неслучайно», потому что рифмы обязательно должны быть живыми, иначе дети не полюбят сказку учителя нашего, а этого она допустить не может.
Однако Йонатан чувствовал, что она не просто присваивает открытие, которым поделился с ним когда-то Амос в ешиве в Йоркеаме, крадет ему одному принадлежащий секрет и безжалостно выставляет его на всеобщее обозрение, — но к тому же неправильно все понимает, искажает, считает книги рабби Нахмана очередным набором рецептов для успешной жизни и чудес, вместо того чтобы осознать, что он единственный прикоснулся к боли, и именно потому, что он знаком с болью, нет у него никакого волшебного лекарства от нее. Да и вообще, гораздо лучше, чтобы родители держались в отдалении от духовного мира детей, чем воображали, будто разгадали его, питали иллюзии о своей чувствительности к нюансам, когда на самом деле ничего они не разумеют — так он сурово думал в то время.
Потом она стала ходить на уроки для женщин по брацлавскому учению, и именно посещение этих уроков немного ее успокоило, дало ей ощущение принадлежности к общине и тем самым освободило от необходимости все придумывать и делать самой. Однажды перед началом месяца нисан [44] — днем рождения рабби Нахмана — она даже поехала с группой женщин в Умань [45], а вернувшись, с явным восторгом сказала Эммануэлю:
— Знаешь, рабби Нахман меня там ждал. Только встретившись с ним, я поняла, как по нему скучала. Какое чудо, что в этом мире у нас есть настоящий цадик и что можно к нему настолько приблизиться.
Но Эммануэлю ее сближение с Брацлавом казалось чуждым и раздражающим.
— Целая теология об уходе в мистику, смешанную с магией, — сказал он, — языческий эскапизм, речи о Боге в таком духе, словно Он — приятель по движению Бней-Акива или по школьной скамье.
Это ранило ее переполненное волнением сердце, наконец нашедшее покой, какого не знало со дня кончины Идо.
— Чем ей не угодила работа в успешном дизайнерском бюро на улице Кинг-Джордж? — швырнул как-то Эммануэль недовольство, будто горсть гальки, в сторону Йонатана, когда они в холь ѓа-моэд [46] Суккот [47] возвращались с утренней молитвы в катамонском «Штиблах» [48], держа в руках упакованные «четыре вида» [49]. Йонатан, которому, вероятно, отводилась сейчас роль адвоката матери, промолчал.
— Ведь она была на пике профессионального роста, — досадливо добавил отец, но сразу же,