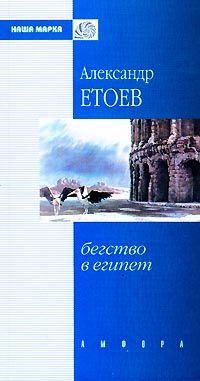Куда, я уже не спрашивал, слишком египетскими стали его глаза, чтобы не понимать куда.
– Женька, а может, завтра? Завтра я бы тоже с тобой.
– Ты теперь не со мной, ты теперь со своими тарантулами.
Я понял, он мне просто завидует, и мне его стало жалко.
– Хорошо, сегодня, но давай вечером. – Я страшно не любил темноту и знал, что он это знает. Поэтому и предложил вечер. – Когда у нас последний трамвай?
Женька посмотрел на меня, Египта в его глазах уже не было, были хитрые паучки вопросов, насаженные на крючок удивления.
– А этот твой Лодыгин, он не артист? В цирке он не работает?
– В цирке? Кажется, нет. А ты почему спрашиваешь?
– Понимаешь, однажды на остановке я видел человека с хвостом.
– Как? С хвостом?
– Погоди, сначала дослушай. Стою я, значит, на остановке, и он стоит. Я сначала не понял, что он с хвостом, потом вижу, люди вокруг шушукаются и на него поглядывают. Я тоже на него посмотрел и вижу – у дядьки за спиной хвост. Метёт он им по асфальту – билетики, пыль, окурки всякие в кучку у фонаря сметает. А потом вдруг как заволнуется, покраснел – понял, что люди на него смотрят, и говорит. Товарищи, говорит, извините, забыл хвост отстегнуть. С работы, говорит, еду, работа такая у меня, говорит. Отстёгивает он свой хвост, а тот у него жёлтый, как веник, и к себе в портфель прячет. В общем, он был артист. Может, и эти тоже?
– Насчёт второго не знаю, а что Лодыгин не артист, это точно.
– Ну, может, он в художественной самодеятельности, ты ж не знаешь. Стой, я придумал. Надо пойти к нему и спросить.
– Как! Просто взять и прийти домой?
– А что?
– Это же не по… – «Правилам», хотел я сказать. Как ведь положено: сделать сперва ходули, подойти незаметно на ходулях к окну и подсмотреть, что делает враг. Главное, чтобы ходули были высокие, доставали до нужного этажа. Паша и Толик в «Тайне „Соленоида“» поступают именно так.
Но я вовремя вспомнил про точильщика и его точило. И ещё подумал, а что бы сейчас со мной было, если бы дядя Петя и инвалид Ртов не пошли тогда выпить квасу. И почему-то эта мысль и это воспоминание соединились со вчерашним уличным случаем, и результат получился скверный. Такой скверный, что домой к Лодыгину – на ходулях или пешком – идти мне очень даже не захотелось.
Я сказал:
– …Не получится.
– Почему не получится?
– А если его нет дома или у него звонок не работает?
– Знаешь, – Женька с уважением посмотрел на меня, – что-то есть в твоей голове от головы профессора Доуэля.
И тут меня под партой кусили. Я посмотрел вниз и увидел чьи-то мокрые зубы.
Женька тоже увидел зубы и, дождавшись, когда в них откроется щель, сунул туда учебник «Родная речь». Вместо кляпа, чтобы не было крика. Я понял, вытащил бельевую прищепку и надел её мокрозубому подлецу на нос. Пусть знает, как нелёгок труд ловцов жемчуга. Без воздуха четыре минуты.
Отсчитав в уме четыре минуты, я снял прищепку. Учебник мы вынимать не стали, пусть слушает, негодяй, молча.
– Не для того, Капитонов, даны человеку зубы, чтобы другого человека кусать. – Женька хотел сказать что-то ещё, такое же доброе и большое, но двоечник Капитонов надул шершавые щёки и выдохнул изо рта учебник.
– Гады, – сказал он, хрипло и слюняво дыша. – А ты, скрипач, – главный гад. – И уполз под колоду парты.
Урок был медленный, как дохлая кляча, и назывался «Родная речь».
Вёл его наш директор Василий Васильевич, расставив ноги греческой буквой «лямбда» и вытянувшись свечой у доски.
Свет знания едва тлел, освещая только чёрную доску и первые ряды парт, где сидели девочки и отличники.
До парты, где сидели мы с Женькой, слова долетали плохо – вёрткие уши отличников хватали их на лету и втягивали в глубину голов.
Слева от нас, за окном, в каменной коробке двора бегал по кругу ветер, а посередине, из центра земляного квадрата глядела зарешёченным глазом низенькая башня бомбоубежища.
Говорили, что в глубине, под школой – целый подземный город, но поди проверь, когда башню сторожит большой амбарный замок, а ключ от него, по слухам, висит на шее директора Василия Васильевича.
Урок был свободный, как бы не по программе, и Василий Васильевич восковым голосом пересказывал чеховского «Хамелеона».
В конце, как положено, должна была прозвучать мораль, и шестеро человек в классе должны были умереть со стыда, но мы с Женькой были заняты важным делом, Жуков и Карамазов спали в положении сидя, Капитонов наматывал под партами свои двадцать тысяч лье, так что умереть мог один Юрик Степанов, но он, как всегда, спасал кого-нибудь из пожара и поэтому на урок не пришёл.
Я поскрёб авторучкой шею, где прятался клопиный укус.
– А может, устроить засаду? Спрятаться у его двери и ждать, когда он войдёт?
Женька помотал головой:
– Ну войдёт он, а что дальше? Ждать, когда выйдет?
Конечно, Женька был прав, но от правды ещё никому не бывало легче.
– Кто читал Чехова, руки вверх, – долетел до нас от доски лёгкий голос Василия Васильевича.
Никакого леса не выросло. Даже девочки и отличники позабыли, где у них руки.
И только одна былинка, один бледный чахлый росток непонятно какой породы пробился возле окна.
Я сам не понял, почему я её поднял. Какая-то тугая пружина подбросила ладонь к потолку, и пять деревянных пальцев за что-то там ухватились. Рука моя была белая, и тень от белой руки, чёрная и тяжёлая, давила мне на лицо.
– Филиппов, – вяло сказал директор, должно быть, и сам не рад, что напоролся на такого рассказчика. – Это вы зачем руку? Почему?
Почему? Однажды в вязанке газет, когда мы собирали макулатуру, мне попалась тощая, как селёдка, книжка писателя Чехова – приложение к журналу «Нива».
Книжка была