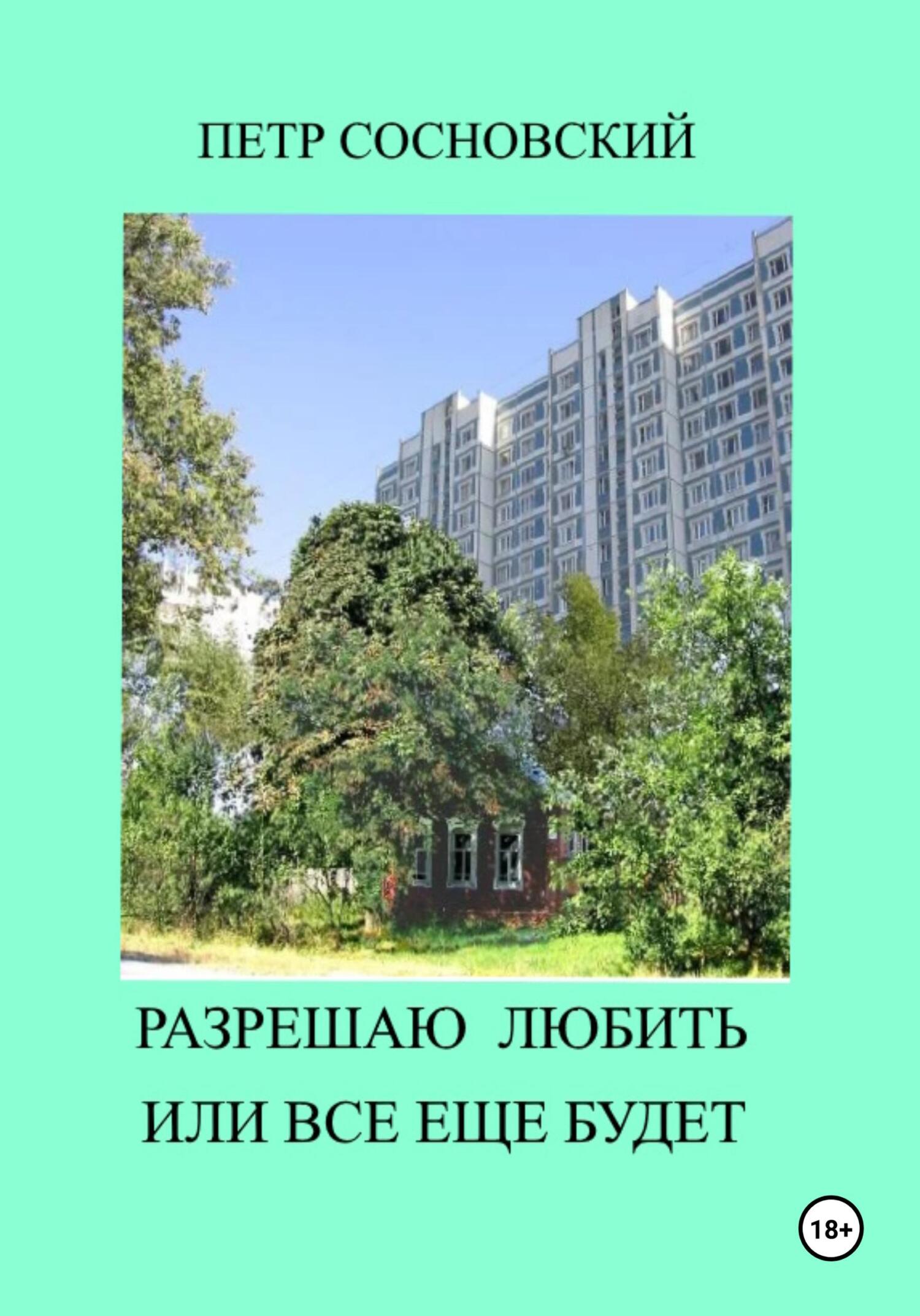вряд ли удастся отодвинуть. Учитель серьезный соперник, ни чета мне. Однако Кустина помогла Фокову. Иначе бы он не пришел ко мне домой, как он это делал раньше.
— Юра, Юра да вставай же ты, хватит спать. Соня! — закричал он.
Я недоумевал. Женя стоял рядом возле кровати. Мне с трудом удалось продрать глаза. Апатия, неприятие жизни у него прошли. Парень чувствовал себя бодро и готов был работать над собой.
Фоков снова с рвением засел за книги. Он без труда подтянул английский язык и успешно его сдал учительнице Клавдии Яковлевне.
В школу Женя пошел, как ни в чем не бывало. На уроках он тянул руку и, когда его поднимали, прекрасно отвечал на вопросы учителей. Я предупредил ребят, чтобы они не напоминали Фокову о том, что произошло. Что было, то было. Прошло, и нет.
После окончания школы я хотел жить в городе. Мне должно было повезти, я, также, как и Ната, Женя, Сеня, Виктор, Светлана, Надежда и многие другие наши ребята не хотел быть неудачником.
Александру Ивановичу — моему отцу не повезло и моей матери Любовь Николаевне. Михаил Ромуальдович и Нина Васильевна — родители Наты также были невезучими. Им пришлось вернуться в село. Правда, это было связано с Натой — девочке не подходил климат. Там, на Целине, пыльные бури вызывали у нее аллергию. В селе она пришла в себя. Однако это ничего не меняло и не считалось уважительной причиной. На пересуды сельчан по поводу своего возвращения на родину Михаил Ромуальдович и Нина Васильевна не обращали внимания.
Хорошо говорили у нас в селе об устроившихся в городе, тех, которые там жили, даже о мотающихся изо дня в день туда и обратно на электричках, например, родителях Жени Фокова, а вот остальные сельчане благосклонностью не пользовались. Неудачники они и есть неудачники.
Мы — ученики десятого класса простой сельской школы хотели жить в городе, мечтали.
Я не раз выговаривал отцу:
— Ну, что ты «уперся» в свою ферму! Работал бы лучше где-нибудь на заводе!
Он отвечал:
— Юра, сынок, ты пойми, работа на ферме мне больше подходит. У меня, да будет тебе известно, астма. Но я держусь, не умираю, возможно, оттого что работаю, живу, здесь — на родине, а не лезу в город. А потом я прошел всю войну, многое повидал и вот, что тебе скажу лучше нашего места нет!
Отец не хотел меня понимать. Он ни за какие коврижки не переехал бы жить в городской дом. Его устраивало пасти летом колхозных коров и приглядывать за ними зимой, копаться в огороде, носить воду из колодца, топить русскую печь. Он был всем доволен. Я же был готов из кожи лезть, чтобы вырваться из села. Будущее мне представлялось прекрасным, в розовых тонах, как на полотнах художников импрессионистов, вырисовывалось и манило меня.
Село собирались сносить. Я сожалел о том, и в тоже время радовался событию, которое должно будет произойти и не только я, но и многие мои друзья. Моего отца мысль о сносе села выводила из себя. Он четко следил за происходящим и горько переживал. Отец и так был невысокого роста, а тут, если его что-то мучило, весь скукоживался и становился похожим на карлика. Однажды он домой пришел в приподнятом настроении — высокий-превысокий, еле вошел в дверь. Даже задел головой притолок:
— Ура-а-а-а! — закричал мне отец прямо в ухо. — Я тут случайно увидел проект работ. Наша улица еще постоит. А вот соседнюю снесут. Кустиным, Фоковым и другим не повезло, придется уезжать.
Мать, хотя и ругала сельскую неустроенность, но отца поддерживала. Наша улица находилась у кладбища, и она боялась, что если село будет снесено, то та же участь может постигнуть и могилки.
— Ну, разве так можно, — причитала она, глядя на меня. — Твоя бабушка Вера Борисовна очень хотела дожить до того времени, когда ты женишься. Куда ты тогда пойдешь и кому скажешь, что женился? Могилки-то снесут!
— Да не собираюсь я жениться, — что мне оставалось говорить, Нату — свою девушку я должен был отдать другу, хоть и мечтал о том времени, когда можно будет уехать в город жить вместе с ней.
При сносе села нам всем должны были предоставить квартиры, и мы из разряда сельских жителей сразу же переходили в разряд городских. Мне не нужно было в городе устраиваться на тяжелую работу, чтобы получить лет через пять-десять квартиру. Жилье было гарантировано.
Я заканчивал «большую» — среднюю общеобразовательную школу — десятый класс. Тогда была десятилетка. Рядом возле бывшей казармы, то есть нашей школы из материала одной из разобранных церквей (их в селе когда-то было три) было построено здание. Оно использовалось для проведения занятий физкультуры и других школьных мероприятий. Я любил ходить туда на вечера. Мне нравилось наблюдать за Кустиной. Она по окончании концерта или танцев доверяла себя проводить. Я с удовольствием соглашался — нам было по пути.
В первом полугодии десятого класса я учился неплохо, но затем съехал. Пятерки мне ставила только лишь учительница по географии Дора Никитична. За спиной ее все называли Добрыней Никитичной из-за высокого роста и крупного телосложения. Она была одинокой женщиной, но необычайно доброй к людям. Зря оценками, не разбрасывалась, завысить — могла. Но после ты уже не смел, сплоховать у доски — не ответить. Умер бы от стыда.
Вокруг меня, как это было с моим другом Женей Фоковым, никто не бегал, не суетился. Положение с учебой я должен был исправлять сам. Как трудно мне не давалась математика, я знал ее. Правда, Иван Семенович мне пятерок не ставил. Он жалел их, берег, наверное, для своих любимчиков. Что хорошего для меня сделал этот учитель? — Заставил работать. В остальном он мне, как человек неприятен. Я всегда, даже по истечению многих лет, рядом возле него чувствовал себя плохо. Мне порой и сейчас слышится его глухой голос: «Юрий, что ты так ходишь, тебе, что обувь жмет?» — И свой: «Да Иван Семенович!» — хотя причина была не в обуви, а в самом преподавателе — я при встрече с ним так робел, что чуть не падал в обморок — «Тогда возьми топор и отруби носки», — сказал мне учитель.
Михаил Потапович передо мной, как перед моим другом Женей Фоковым себя виноватым не чувствовал и преспокойно закатил мне в четвертой четверти по физике двойку.
Десятый класс для меня был самым трудным. К экзаменам меня