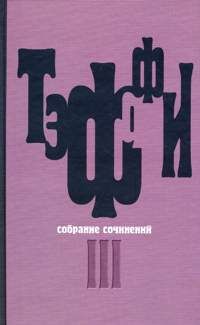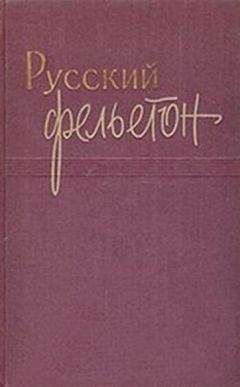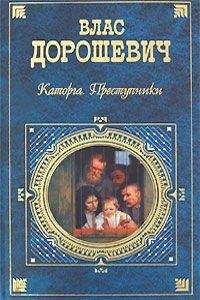«Па-па! Детка хочет арбуза! Па-па!» Дом всегда был полон народу: актеры, актрисы, рецензенты. Все оставались к обеду и к завтраку. Было шумно, людно и бестолково. О политике здесь говорилось мало. Свободно встречались и беседовали люди, которые должны были вернуться в Москву и которые могли вернуться, с теми, которые никогда вернуться уже не смогут. Впрочем, ведь никто ничего и не знал. Предоставляя людям активной борьбы знать и решать, здесь, в этой группе артистической богемы, жили только своими профессиональными интересами и, мне кажется, словно боялись задуматься и оглядеться…
Народу все прибавлялось. Всеми правдами и неправдами проползали с севера все новые группы актеров.
Приехал старый театральный журналист. Прислал телеграмму, что нездоров, и просил приготовить комнату. Сняли номер в гостинице, и две сердобольные актрисы поехали его встречать.
Встретили.
– Все готово, мы даже заказали для вас ванну!
– Ванну? – испуганно спросил журналист. – Разве вы считаете, что мое положение настолько опасно?
Дамы смутились.
– Нет, что вы! Это просто чтобы вы могли вы мыться после такой ужасной дороги.
Журналист снисходительно улыбнулся.
– Ну, если дело идет только об этом, дорогие мои, то должен вам сказать, что особой потребности не чувствую…
Помню в этой пестрой толпе кинематографического героя Рунича, опереточного премьера Кошевского – комического актера и трагического человека, которому всегда казалось, что он смертельно болен. Даже когда с удовольствием накладывал себе в тарелку третью порцию, он сокрушенно приговаривал:
– Да, да, подозрительный аппетит. Верный симптом начинающегося менингита…
У него была интересная жена, о которой какая-то актриса сказала:
– Она из очень интересной семьи. Говорят, Достоевский писал с ее тетки своих «Братьев Карамазовых»…
Настал день моего спектакля. Ставят три моих миниатюры, и, кроме того, артисты будут рассказывать мои рассказы, петь мои песенки и декламировать стихи.
Антрепренер требует, чтобы я непременно сама что-нибудь прочла. Я защищаюсь долго и упорно, но приходится сдаться.
Актрисы наши волнуются, забегают ко мне и все по очереди просят разрешения загримировать меня перед моим выходом.
– Что вы будете читать? – спрашивают меня.
– Еще не выбрала.
– Ах-ах! Как же так можно!
Вечером с писком, визгом и воплями все население нашего дома убежало в театр. Я решила прийти попозже.
Спокойно оделась и вышла.
Тихая была ночь, темная, густозвездная. И странно от нее затихла душа…
Бывают такие настроения. Сразу обрываются в душе все нити, связывающие ее земное с земным. Бесконечно далеко чуть помнятся самые близкие люди, тускнеют и отходят самые значительные события прошлого, меркнет все то огромное и важное, что мы называем жизнью, и чувствует себя человек тем первозданным «ничто», из которого создана вселенная…
Так было в тот вечер: черная, пустая круглая земля и звездное бескрайнее небо. И я.
Сколько времени так было – не знаю. Голоса разбудили меня. Шли люди и громко говорили о театре. И я вспомнила все. Вспомнила, что сегодня мой вечер, что я должна спешить, увидела, что я зашла куда-то далеко, потому что около меня блеснула полоской вода и черные мостки на ней.
– Ради бога! Как пройти к театру? – крикнула я.
Мне объяснили.
Я пошла торопливо, стараясь стучать каблуками, чтобы слышать, что я вернулась в мою простую обычную жизнь…
В театре за кулисами, куда я пошла, оживление, толкотня.
– Деникин в зале! Театр битком набит.
Вижу сбоку первые ряды. Блестит шитье мундиров, золото и серебро галунов, пышный зал.
Пышный зал хохочет, аплодирует, смех захватывает тех, кто толпится за кулисами.
– Автора! – кричат голоса из публики.
– Где же автор? Где же автор? – суетятся за кулисами.
– Где автор? – машинально повторяю и я. – Где же автор? Ах да, господи! Да ведь это же моя пьеса!.. Ведь я и есть автор!
Если бы знал мой милый антрепренер Б-е, какое чудище он пригласил! Ведь нормальный автор должен с утра волноваться, нормальный автор должен всем говорить: «Посмотрите, какие у меня холодные руки». А я развела какое-то звездное небытие и, когда публика меня вызывает, с любопытством спрашиваю: «Где автор?»
А ведь гонорар-то придется мне выдавать как путной!
– Идите же! – кидается ко мне режиссер.
Я наскоро устраиваю беспечную улыбку, ловлю протянутые ко мне руки актеров и выхожу кланяться.
Последний мой поклон русской публике на русской земле.
Прощай, мой последний поклон…
31
Лето в Екатеринодаре.
Жара, пыль. Через мутную завесу этой пыли, сумбура и прошедших годов туманно всплывают облики…
Профессор Новгородцев, голубые, такие славянские глаза Мякотина, густая шевелюра сентиментального Ф. Волькенштейна, рассеянный и напряженный взгляд мистика Успенского… И еще другие, о которых уже молились, как о «рабах Божиих, убиенных»…
Среди петербургских знакомых молодой кавалерийский офицер, князь Я. Веселый, возбужденный – лихорадящий от простреленной руки.
– Солдаты меня обожают, – рассказывал он. – Я с ними обращаться умею. Бью в морду, как в бубен.
Думаю все-таки, что любили его не за это, а за бесшабашную удаль и особое веселое молодечество. Рассказывали, как он в офицерских погонах на плечах с громким свистом проскакал по деревне, занятой большевиками.
– Почему же они в вас не стреляли?
– Очень уж обалдели. Глазам своим не верили: белый офицер, и вдруг по деревне едет. Выскочили, глаза выпучили. Ужасно смешно!
О дальнейшей судьбе этого самого князя Я. рассказывают очень удивительную историю. В одном из южных городов он в конце концов попался врагу в лапы. Был судим и приговорен к каторге. Никакой определенной каторги в те времена у большевиков не было, и посадили князя просто в тюрьму. Но вот понадобился властям для их собственного обихода прокурор, а городок был маленький, люди образованные разбежались либо попрятались, а про князя знали, что он кончил юридический факультет. Подумали и надумали: приказали ему быть прокурором. Приводили под конвоем в суд, где он обвинял и судил, а ночевать отводили снова на каторгу. Многие, говорят, ему завидовали. Не у всех были обеспеченные стол и квартира…
Екатеринодар, Ростов, Кисловодск, Новороссийск…
Екатеринодар – высокочиновный. И во всех учреждениях-живописный берет, и плащ, и кудри Макса Волошина. Он декламирует стихи о России и хлопочет за невинно осужденных.
Ростов – торговый, спекулянтский. В ресторанном саду пьяные, истерические кутежи с самоубийствами…
Новороссийск – пестрый, присевший перед прыжком в Европу. Молодые люди с нарядными дамами катаются на английских автомобилях и купаются в море.
– Novorossisk, les Bains.[19]
Кисловодск встречает подходящие поезда идиллической картиной: зеленые холмы, мирно пасущиеся стада и на фоне алого вечернего неба – тонко вычерченная черная качель с обрывком веревки.
Это – виселица.
Помню, как притянула мою душу эта невиданная картина. Помню, как рано-рано утром вышла я из отеля и пошла за город к этим зеленым холмам, искала злую гору.
Взошла по утоптанной крутой тропинке, поднялась «туда». Она вблизи была не черная, эта качель. Она серая, как всякое старое некрашеное простое дерево.
Я встала в середину под прочную ее перекладину.
Что видели «они» в последнюю свою минуту? Вешают большею частью ранним утром. Значит, вот с этой самой стороны видели «они» свое последнее солнце. И эту линию гор и холмов.
Пониже, слева, уже начинался утренний базар. Пестрые бабы выкладывали из телег на солому глиняную посуду, и солнце мокро блестело на поливе кувшинов и мисок. И «тогда», наверное, также бывал этот базар. А с другой стороны, подальше, среди холмов, пригнали пастухи гурты баранов. Бараны плотными волнами (как кудри Суламифи) медленно скатываются по зеленому склону, и пастухи в меховых шкурах стоят, опираясь на библейский длинный посох… Какая благословенная тишина! И такая же тишина была и «тогда».
Дело совершенно будничное и простое. Несколько человек приводили одного. Ставили туда, где стою я. Может быть, один из пастухов, закрыв глаза щитком-ладонью от солнца, взглянул, что там за люди копошатся на холме…
Здесь была повешена знаменитая анархистка Ге. Красивая, молодая, смелая, веселая, нарядная приятельница Мамонта Дольского. Многие из моих друзей кутили в лихорадочное время в этой занятной анархистской компании. И все эти анархисты казались нам ряжеными хвастунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу Мамонта, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Болтовня, поза, грим трагического злодея, костюм напрокат. Интересно и безответственно. Всю жизнь играл Мамонт на сцене Кина, в жизни – в Кина, в гения и беспутство. А умер – как подшутила судьба! – от благородного жеста. Стоя на подножке трамвая, посторонился, чтобы уступить место даме. Сорвался и попал под колеса. А несколько месяцев спустя приятельница его, нарядная и веселая Ге, стояла вот здесь, смотрела, прищурив глаза, на свое последнее солнце и докуривала последнюю свою папироску. Потом отшвырнула окурок и спокойно набросила себе на шею тугую веревочную петлю.