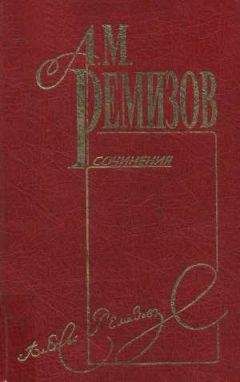И больше не укорял себя, но и неприязнь забыл, надоело мне. И я схватился за свое, что меня глубоко беспокоило, и лишь отвлекла слепая.
Вот уже с час, а может, и больше, ехал я вслепую – я и представить себе не мог, куда еду: станции все были незнакомые, и сначала я следил по карте около уборной, но пришлось бросить – толкучка, да и зря – таких станций на карте не было. Когда туда ехал, мне виделся берег высохшей реки в песчаных плешах – нынешнее лето засуха – а теперь, если и попадалась река, то никакого песку, а невозможно, чтобы за месяц произошла такая перемена.
У моей соседки в руках листок и на нем колонкой станции: должно быть, в первый раз едет! Я заглянул и обрадовался: последняя – Paris, Но это только сослепу я прочитал «Париж», это был Сане. А спросить, куда едет поезд, мне было неловко – ведь уж очень глупо: едет человек, а не знай, куда едет. И я решил потревожить мой чемодан, и это совсем не легко, когда так тесно, и все-таки решился, вытащил карту и ищу. И нашел-таки станцию. Но и это меня не успокоило: я ехал не то, что в противоположную сторону, но и не в Париж, а куда-то в Нанси. Ясно было, что я попал не в тот поезд.
Есть всякие автокары. Есть автокар Ситроен – бросает во все стороны, но какая-то все-таки закономерность, а главное есть определенное «complet»; автокар P.L.M. немилосердно подкидывает, и очень это надоедливо, но понимаешь, что такой механизм, во внутреннем же распорядке – одно безобразие. Взял я билет на «терминюсе», а, когда подали автокар, места оказались все заняты – или еще в гараже понасели? – и пришлось стоять. А только что отъехали, на первой же остановке – хоть и говорилось – прямое сообщение, всех нас выгнали, а подъехал другой автокар, и кто как успел вскочить, того такое и счастье: сидячие оказались стоячими, а я сел. И потом на каждой остановке, а всех остановок и счет потеряешь, и как стали влезать – ну, некуда, а лезут – и лезет народ с вализами, с кофрами, с картонками и с собаками, а один даже с ружьем и держит над головой, того и гляди, выпалит, да и от собак тоже не очень весело: не то грызутся, не то играют, а руки прячешь, вот тяпнет. Автокар подгоняется к поезду. А приехали на станцию, дай Бог за полминуты. И все разом на платформу. Два поезда – не все понимаю, да и по близорукости – на одном вагоне вижу «Paris», но вскочил-то я в соседний, не посмотрев. Так вот и еду вслепую.
Слепая перестала рассказывать, и соседям больше нечего было слушать. Господин ковырял в носу, барышня следила по листку станции. Слепая дремала, а, может быть, и заснула, и не было в лице ее никакого жеманства и ничего деланного. И мне ее жалко стало.
«Пока спит, – думал я, – ничего, а проснется – и это очень страшно: ночь и безнадежно. И сколько несчастья в мире! – мне всех стало жалко, – и какая беспомощность и какое глубокое равнодушие!» – и опять я стал о своем думать, – «куда я ехал и куда заеду? И если бы деньги… и что я буду без денег?»
И эта мысль сверлила меня: «что я буду без денег?» А между тем промелькнула станция, я скорее на карту, и по карте вижу: поезд повернул на Париж.
– Теперь рапид! – сказала соседка.
И отлегло от сердца: я ехал, хоть и колеся, в Париж.
И я приладился, отложив мою карту, как слепая свой белый посох. Но я не дремал, мне спать не хотелось. На опроставшемся месте, до того занятом беспокойным «куда?» пошли мысли, – те узлы памяти, которые в каждой жизни называются «мое прошлое». Эти «узлы» были из моего недавнего. А началось оно месяц назад, когда я сидел в Париже на Лионском вокзале, дожидаясь поезда, чтобы ехать в то зачарованное ущелье, откуда сейчас возвращался в Париж, – и, действительно, к моему счастью, ехал в Париж.
2. Дорожные узлы
Я сидел в ресторане, четвертый час – дожидаясь поезда. Поезд отходит в полдень. Я забрался спозаранку, – я не из дому, а с другого вокзала: с тех пор, как я вышел на волю в жаркое июльское утро, у меня нет дома, и я перекочевываю с места на место.
На моих глазах подметали, посыпая, и чистили; завтрак гарсонов; я прочитал газету – и мысли мои шли так тихо, так тикали, как во сне. За час стали появляться «вояжеры», одни наскоро пили, их сменяли другие, и из всех задержалось три столика; я сидел у стены – против.
Против за столиком высокий, плотный господин с приставной головой – лицо Гинденбурга, под левым глазом синяк, правая рука на перевязке. С ним дама – она казалась еще меньше рядом, и бледней от своих черных волос. Бурча, он налил себе пива, потом ей. И, отхлебнув, продолжал бурчать: подбитый глаз, не мигая, смотрел куда-то в сторону, здоровый подмигивал. Губы ее опустились, она поспешно отпила глоток и горько заговорила. Но он перебил. И вдруг она заплакала. И хотелось подняться, взять его же стакан и плеснуть ему в лицо. Больше нельзя было выдержать, она встала и быстро пошла, – и за ней, я узнал эту тень, черное горе. А он остался – приставная голова, подпиравшаяся тугим воротничком, отхлебывала – и разве он был когда-нибудь не прав? И с правом он будет еще и еще выговаривать. Наконец, она вернулась, отпила глоток и посмотрела на него, – мне показалось, виновато. И я понял, что она в большой зависимости и боится его. И опять заговорила, и что-то уж не горькое, а жалкое было в ее словах. А он прихлебывал – он ее не слушал и не смотрел, ослепший в своем праве и чванливой правоте.
Слева за столиком моряк с красным помпоном на шапке и барышня в коричневом. Наклонившись к столу, она что-то старательно выписывала и потом передала ему – свой условный адрес? А если бы она видела, с каким нетерпением следил за ней ее спутник – и как свободно вздохнет он, когда, наконец, простившись, он очутится в поезде один, и потом среди товарищей будет хвастать – мало ли мерзавцев! Но ее глаза неотводно – или она не видит? – но я узнал ее: это сама любовь неотводно глядела на него.
Справа – господин и дама. Пожилой уж, да и она не та. Ему принесли сифон и налили что-то зеленое, а ей кофе. И я заметил, как выпив, он сразу покраснел и заговорил, и эта краска окрасила его слова. А она, слушавшая его с таким интересом, вдруг поморщилась – «действие, кафе-олэ!» – подумал я. Да, я не ошибся: она, пошарив у себя в мешочке, вдруг поднялась и, кивнув, а на лице у нее опять появилась судорожная морщинка! – пошла в уборную. И за время, как она оправлялась в уборной, да ждала – на вокзалах всегда очередь, случилось превращение: то самое зеленое, подкрасившее господина и его слова, исчерпало свою силу, а он вдруг съежился. И вот она вернулась помолодевшая и весело заговорила – да, он достиг цели! – «достиг цели?» – но он сидел опустившийся, и куда девалась краска! – он явно досадовал на свою затею, но уж было поздно. Чудеса природы!
Чудеса природы, любовь – какая это жалкая любовь! – и унижение – «бедность рабства и рабство бедности!» остались в моей памяти, с ними я и вошел в вагон.
И, как всегда, начались недоразумения. Хотя я наверно знал по «справочному бюро» номер прямого поезда, проводник стал уверять меня, что я сел не в тот поезд. И я взялся за чемодан вылезать, но к счастью моряк с красным помпоном остановил меня: ему не в первый раз – никакой пересадки. Не знай, кому и верить! Я остался, но всю дорогу сидел, как на иголках, пока не проехали пересадку. А это называется – «неразбериха». Но остался в памяти и еще «узел» – «культура».
У окна расположились муж с женой, люди почтенные, и все у них в таком порядке и предусмотрено: и как ели и пили и у каждого была книга и иллюстрированные журналы, и как потом немножко заснули. Удивлялся я, глядя: «это и есть культура, – думал я, – и такому век не научишься!» Так и осталось: «культура». Но под самый конец, как вылезать моим случайным и таким непохожим спутникам, случился грех – всего не предусмотришь! Он нагнулся чемодан застегнуть – все в чехлах! – а она полезла чемоданчик снимать; и когда чемоданчик, и довольно-таки увесистый, был у нее в руках, он, застегнув свой, приподнял голову, по голове его этим чемоданчиком и трахнуло. И куда все девалось? Она уж его и рукой трогала: ведь она нечаянно. И ведь ясно, что нечаянно, а было чувство, как нарочно, он грубо отмахивался и огрызался. Так и вышли – трудно поверить, что это были они, мои примерные спутники. Срывая сердце, он грубо, не нес, а тащил, зацепляя за стенку вагона, свой чемодан, а за ним с чемоданчиком она тащилась.
И этот злополучный чемоданчик, разрушивший вернее всякой бомбы ту самую культуру, которой никак не научишься, закрутился узлом в моей памяти, как те ресторанные столики: любовь, природа и рабство.
3. Борода крючком
Мадемуазель Габриель – моя хозяйка, с нее и начинается мой месяц в зачарованном ущелье. Сухая, длинная, усы и борода да не какая-нибудь – пёнушки, а густая крючком, в первый раз вижу. В моей комнате книжный шкап, книги тесно – неприкосновенные. Но я тронул – все награды мадемуазель Габриель, когда она училась в лицее – за прилежание, поведение и хорошие успехи. Кроме нравоучительных, в которых мадемуазель Габриель не нуждается, города Франции, а про них читать не к чему – дальше соседнего мадемуазель Габриель не выезжала. Когда я с ней поздоровался, я не почувствовал разницы между ручкой чемодана и ее рукой, нет, ручка была теплее – ведь я нес чемодан! И, ощутив неприятный холод человеческого тела, я пожалел ее.