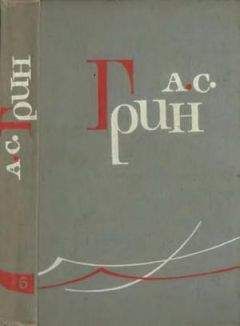При таких обстоятельствах мне ничего больше не оставалось, как пойти на Графскую пристань, к катеру. Не успел я спуститься на площадку, как подошли ко мне два солдата Палицын и его приятель. Я знал и того. Едва успел я спросить о чем-то по делу, как из-за спины моей вырос, покручивая усы, городовой.
– Разговариваете? – мирно, словно вскользь, спросил он.
– Да, – ответил я, и вдруг мои ноги начали ныть.
Сердце упало.
– А не прогуляться ли нам в участок? – так же спокойно продолжал городовой.
Я посмотрел на солдат:
– За этим мы и пришли… – был тихий ответ.
Городовой свистнул. Подошли еще двое полицейских. Солдаты исчезли (как я узнал впоследствии, они были уже арестованы и, не зная ни моего имени, ни адреса, ходили при полицейских по городу, чтобы опознать меня). Меня отвели в участок; из участка ко мне в комнату, сделали обыск, забрали много литературы и препроводили Грина в тюрьму. Никогда мне не забыть режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий, за спиной, стук и внезапное воспоминание о мелодической песне будильника «Нелюдимо наше море».
IV
Я был арестован 11 ноября 1903 года. Вышел из тюрьмы по амнистии 20 октября 1905 года.
Корпус севастопольской тюрьмы состоит из четырех этажей и четырех коридоров-галерей с панелями по обе стороны, сверху донизу сквозь все этажи видны мостики, соединяющие панели, и винтовые железные лесенки, соединяющие этажи. В каждом коридоре-галерее дежурит суточно надзиратель. Меня поместили в камеру четвертого этажа и через час вызвали на допрос.
Когда я вошел в канцелярию тюрьмы, там были уже прокурор, жандармским полковник и еще какие-то чины, человек пять. Я отказался давать показания, единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я – беглый солдат. О всем прочем из меня не могли добыть ничего, хотя усердно грозили каторгой и даже виселицей.
Вновь отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас, немедленно, начал замышлять побег. На другой день вечером окошечко камеры откинулось, упала свернутая записка, окошечко быстро захлопнулось. Записку бросил уголовный арестант-уборщик, уборщики свободно разгуливали по коридорам и оказывали политическим важные услуги. Записка была от с.-д. Канторовича, провизора местной аптеки. Канторович был арестован уже две недели; я однажды встретился с ним у Киски. Канторович писал, что я могу давать уборщику записки для города, арестант будет передавать их ему, а он, через одного надзирателя, наладит сношения с «волей». В записке были указания, как писать шифром – цифрами и посредством книги.
В течение следующих десяти дней завязалось дело с побегом, едва не стоившее мне жизни. Я сносился с Киской записками через одного молодого, уже спропагандированного Канторовичем надзирателя, надзиратель стал скоро сам приходить ко мне, исполняя мои поручения. Кроме того, Киска, а затем ее брат несколько раз являлись на улицу, против тюрьмы, выговаривая маханием платка (по известной азбуке) нужные фразы; я через окно отвечал им такой же сигнализацией.
Пока шли эти переговоры, из Петербурга приехала военно-судебная комиссия с очень простой целью – объявить Севастополь на военном положении, хотя бы на месяц, чтобы меня повесил военно-полевой суд, но этот номер почему-то не прошел. Вызванный предстать перед ней в канцелярию, я увидел четырех генералов с весьма опасными лицами, но отвечать отказался. Тогдашний контр-адмирал поклялся, что «сгноит меня в тюрьме».
Между тем Киска добыла на побег тысячу рублей. Было куплено парусное судно, чтобы отвезти меня на нем в Болгарию; за сто рублей был подкуплен извозчик, на котором должен был я, перебравшись через стену тюрьмы, скакать к отдаленной бухте, где ожидало судно.
В назначенный день в точно высчитанный час моей прогулки по двору тюрьмы (после обеда, около двух часов) на соседний двор, где помещалась баня и прачечная, около здания бани перекинулась завязанная узлами веревка. Случилось непредвиденное: неожиданно в этот самый день, на дворе прачечной-бани арестантки развешивали белье; его ряды висели на многих веревках, мешая быстро пробежать через открытую калитку к высокой тюремной стене…
По случаю холодного дня я был в пальто, но пальто накинул на плечи, чтобы удобнее было его сбросить, а в кармане я держал пачку нюхательного табаку, чтобы засыпать им глаза надзирателя, тем предупреждая его погоню за мной в соседний двор. Багроволицый усач, помощник смотрителя, вышел на крыльцо тюрьмы, увидел, как я нервно верчусь взад и вперед, и, должно быть, что-то заподозрил, так как проворчал весьма недвусмысленные слова. К огорчению моему, веревка, перекинутая через стену, оказалась тонким шпагатом, я же просил толстую веревку; узлы на ней были завязаны не менее как на три фута один от другого… Я убедительно просил завязать узлы не более как на футовом расстоянии.
Время шло. Уже прошло минут пять, что перебросилась через стену веревка, ее видели не только я, но и арестантки на соседнем дворе. Помощник не уходил с крыльца. Я дошел до калитки, сбросил пальто и, путаясь под хлещущим по лицу мокрым бельем, пробежал к стене. Я схватил веревку, уже слыша сзади крики: «Держи, держи! Стреляй!» – и потянул, но, к ужасу моему, веревка свободно валилась вниз… Вдруг она натянулась.
Попытка взлезть на полуторасаженную стену по новой, очень тонкой, веревке кончилась неудачей хотя оставалось мне взобраться лишь на аршин, чтобы протянуть руку к гребню стены (причем я здорово ободрал ладони!), как за самой спиной щелкнул курок, и помощник крикнул.
«Стреляй его! Стреляй, сукин сын!»
Я спасся тем, что, выпустив веревку, упал в траву. Меня с ругательствами отвели в карцер, где, впрочем, я пробыл всего два часа, так как очень быстро явились прокурор и жандармский полковник – допрашивать о побеге. Надо кстати сказать, что Леонид и Ровногуб благополучно удрали, перебравшись через Болгарию на «моем судне» во Францию, об их жизни там в «Русском богатстве» за 1910 (кажется) год есть ряд очень интересных очерков Евг. Синегуба.
Раздавленный и уязвленный неудачей, я чуть-чуть не попался на удочку прокурора, когда тот довольно мягко спросил:
– Нет ли у вас знакомых, которые могли бы ходить к вам на свидание?
Уж я открыл рот, но… – о чудо! – старый, изъеденный сифилисом и водкой щучелицый жандарм чуть слышно кашлянул, – и я увидел по его взгляду, что попадусь.
– Нет! – сказал я. – У меня нет никого – ни родных, ни знакомых.
Загадка человеческого сердца! Что подвинуло жандармского полковника предостеречь меня, своего врага? Я никогда этого не узнал и даже до сих пор не могу догадаться, в чем дело; разве лишь то, что прокурора он ненавидел более, чем меня, и не хотел, чтобы тот получил хотя бы какой-нибудь триумф посредством допроса? О побеге я сказал, что показаний об этом давать не буду.
Меня, в виде наказания, сунули в нижнюю камеру. Там решетка была на уровне с землей. Затем в течение месяца я переходил всё выше и выше, пока снова не достиг четвертого этажа, следствие было кончено, режим тюрьмы был свободным, и я сидел одно время с Крюковым, четырехлетним мучеником. Это был студент, осужденный на поселение за хранение нелегальной литературы. Так как его подозревали в пропаганде среди войск, то и проморили в тюрьме целых четыре года. Скоро он отправился в ссылку.
V
По просьбе заключенных начальство охотно сажало их вдвоем, так, например, я одно время сидел с Канторовичем.
Около декабря Киску, по подозрению в участии в моем деле[4], выслали этапом в Архангельскую губернию. Оттуда она перебралась в Швейцарию.
Совместное сидение хуже, чем одиночное; измученные люди вскоре начинают раздражаться, ссориться, и начальство вновь разделяет их. Но сидеть одному очень тоскливо, а потому вновь возникают просьбы о помещении с кем-нибудь вдвоем.
Наши камеры были неравной величины: угловые – побольше, неугловые – темные каморки с выкрашенными до половины в серый цвет стенами, представляющими смесь грязных белил с карандашными и высеченными надписями прежних жильцов. На асфальтовом полу, у стены, помещалась железная койка с соломенным матрацем, соломенной подушкой и одеялом серого грубого сукна. Постельное белье было из холста. У дверей помещалась параша, ведро с крышкой, вделанное в серый табурет. У окна ставилась на полочку жестяная керосиновая лампа, горевшая всю ночь.
Понятно, какой воздух был в камере зимой: тут смешивались запахи керосиновой гари, параши и табаку Политические пользовались разрешением носить свою одежду и белье. Кто сидел и третьем и четвертом этажах по переднему фасаду, тот обыкновенно целые дни торчал на табурете перед окном, рассматривая протекающую на улице свободную жизнь: пешеходов, извозчиков, посетителей, идущих по двору на свидание или для «передачи». У меня не было ни свидании, ни передач; но я несколько раз получал по почте от друзей небольшие деньги, раз получил две смены белья и носки.