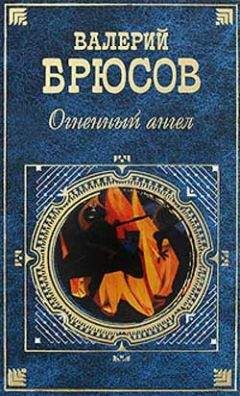– Откуда вы все это знаете, maman?
– Заметь себе, что всегда бывает гораздо больше известно, нежели ты думаешь.
– Во всяком случае я вышла из возраста, когда водят за руки. Я – совершеннолетняя и могу жить как мне нравится.
– Я – мать. Предупредить тебя – это моя обязанность. Ты сейчас бравируешь мнением общества. Но позднее ты очень пожалеешь, что восстановила его против себя. Ты думаешь, что весь свет в одном окошке, что можно всю жизнь прожить с одним художником…
– Maman, вы касаетесь личностей, это неуместно.
– Когда мать говорит с дочерью, все уместно. Ты полагаешь, что о твоей связи не говорят кругом. Совершенно не понимаю, зачем ты ее афишируешь. Никто не требует от тебя ангельской добродетели, но все вправе ждать, что приличия будут соблюдены.
В конце концов, чтобы кончить, я сказала:
– Позвольте вам объявить, maman, что по прошествии года траура я выхожу замуж за Модеста Никандровича Илецкого.
Maman, кажется, не притворяясь, побледнела.
– Но ты с ума сошла, Nathalie! Он бог знает из какой семьи, без роду, без племени, без всякого состояния, притом он сумасшедший!
Последнее слово она произнесла с расстановкой: су-ма-сшед-ший!
– Неужели вам больше нравится, чтобы мы жили в незаконной связи?
– Ты меня не понимаешь. К этому я могу отнестись снисходительно. Я допускаю порывы молодости. Но есть ошибки непоправимые. Никогда не надо делать последнего шага. Зачем доводить что бы то ни было до последней черты? Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других.
Maman читала мне свои наставления часа два. Когда она наконец уехала, у меня сделалась мигрень. Меня мучили не то мысли, не то сны, не то видения. Мне представлялось, что мы с Модестом в каком-то парке, чуть ли не в Булонском лесу, ищем уголок, чтобы свободно остаться вдвоем. Но едва он меня обнимает, появляется толпа знакомых, предводимых maman, и все указывают на нас со смехом. Мы убегаем на другой конец парка, но там случается то же. Так повторяется много раз, причем всегда нас застают в особенно неожиданных, постыдных позах. Этот кошмар измучил меня до полусмерти.
Maman – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестер лицемерию. Воспитание она нам дала самое поверхностное. Развратила она нас с ранних лет, чуть не подсовывая откровенные французские романы, но требовала, чтобы мы прикидывались наивными дурами. Сама она по своему девичьему паспорту дочь коломенского мещанина, а выйдя замуж за отца, мелкого чиновника из захудалой дворянской семьи, стала играть роль аристократки и нас учила гнушаться людьми «низкого» происхождения. С пятнадцати лет она начала нас тренировать и натаскивать (иначе не умею назвать) на ловлю женихов и двоих старших устроила превосходно; устроит и Лидочку…
Если теперь maman приходит ко мне и заботится о моей нравственности, то потому только, что мне досталось от Виктора состояние. Мать боится, что эти деньги попадут в руки какого-нибудь сильного мужчины. Она предпочитает, чтобы ими владела я, у которой она, конечно, сумеет выманить и вытребовать все, что ей себе желательно получить. Она предпочтет, чтобы у меня были десятки любовников, только бы я не вышла замуж за Модеста.
А для меня нет ничего столь ненавистного, как понятие – мать. Проклинаю свое детство, проклинаю первые впечатления жизни, проклинаю все свое девичество – балы, гуляния, дачные романы, обмен любовными записочками! Все или было обманом, подстроенным матерью, или было отравлено ее клеветой на жизнь и на людей. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой. О! как еще я не захлебнулась в той грязи, куда вы заботливо кинули меня на ловлю житейского благополучия, мать!..
А все же о словах матери надо подумать. По-видимому, добровольных шпионов больше, чем мы предполагаем, и у наших добрых знакомых достаточно досуга, чтобы следить, куда и на каком извозчике мы едем. Придется, пожалуй, скрепя сердце, затвориться на время траура, как в монастыре; я вовсе не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Только не лучше ли, по совету Володи, уехать в Италию, да и его прихватить с собой?
Почти неделю просидела я дома и чуть с ума не сошла от тоски. Больше сил моих нет выдерживать этот траур.
Сначала я занялась было тем, что отдала визиты родственникам и более близким знакомым, посетившим меня с изъявлениями соболезнования. Разговор о модах предстоящего сезона интересовал меня в первом доме, у Мэри, уже томил во втором, у Катерины Ивановны, и из себя вывел, когда с ним же ко мне обратилась сухопарая Нина, искренно воображающая себя красавицей и наивно говорящая: «у нас, у красивых женщин…»
Потом я попробовала разобраться в делах, оставшихся после мужа. Мне передали ворох счетов, меморандумов, заявлений, отношений и бог знает еще чего. Надо было уяснить себе, какие бумаги переменены, какие нет, по каким проценты получены, по каким нет, какие застрахованы, какие вышли в тираж, сколько рублей лежит на текущем счете и сколько на вкладе, – я во всем этом безнадежно запуталась. В конце концов дала полную доверенность дядюшке Платону: пусть и здесь он, еще раз, наживет с меня…
По вечерам, когда делать было нечего, я заставляла Лидочку читать мне вслух романы, которые подобает читать и ей (хотя тайком она, конечно, давно прочла и Мопассана, и Катюлля Мендеса, и Вилли, и, вероятно, еще кое-что посильнее). Она читает тоненьким голоском, временами посматривая на меня влюбленными глазами (она меня очень любит), а я думаю о Володе и жалею, что читает мне не он. Так прочли мы длиннейший роман Троллопа, нашедшийся в нашей библиотеке, «Малый дом», который да отпустит ему господь в ряде всех других его прегрешений!
Единственная польза, какую принесло мне мое заточение, это та, что у меня оказалось достаточно свободного времени – обдумать свое положение. Первые дни по смерти Виктора я жила как сумасшедшая, как-то не думая, что надо начинать новый период жизни. Теперь же я обсудила все внимательно и осторожно, и вот мой окончательный вывод.
За Модеста замуж я ни в каком случае не выйду. Совершит ли он после моего отказа самоубийство или не совершит, мне до того дела нет. Модест – зверь опасный, от него можно всего ожидать, и я не хочу каждый вечер класть голову в пасть тигру, хотя бы до поры до времени и ласковому. Но как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы вынужденного разврата… Что дальше делать, это будет видно.
Сегодня ожидало меня объяснение совсем неожиданное.
Я давно замечала, что Лидочка как-то невесела, расстроена, бледна. Но за всеми моими делами, денежными и личными, у меня времени не было вникнуть в ее жизнь. Да и что удивительного, если девушка в 18 лет бледна и грустна: в эти годы такой быть и подобает.
Но сегодня, войдя нечаянно в комнату Лидочки, я застала ее в слезах над каким-то альбомом. Я вовсе не собиралась пользоваться своими правами старшей и, наверное, молча вышла бы из комнаты, если бы Лидочка, заметив меня, не разразилась вдруг рыданиями отчаянными, перешедшими в форменную истерику. Лидочка упала со стула, а когда я ее уложила на кушетку, билась в судорогах, смеялась и плакала вместе, и все ее лицо кривилось и перекашивалось.
Едва придя в себя, Лидочка с ужасом стала спрашивать:
– Ты прочла? Ты прочла?
– Успокойся, – возражала я, – я никогда не читаю ни чужих писем, ни чужих бумаг. Я ничего не прочла.
Лидочка твердила: «Нет, ты прочла, прочла», и рыдала безнадежно. Наконец, с помощью разных капель и воды, я до какой-то степени Лидочку успокоила. Я предпочла бы ее ни о чем не расспрашивать, но всем своим поведением она как бы говорила мне: расспроси меня. Я покорилась с неохотой, настаивала против воли, а Лидочка сопротивлялась моим настояниям, хотя в глубине души ей хотелось уступить. Впрочем, я уверена, что свою роль она играла бессознательно, что ей самой в самом деле казалось, что она не хочет ничего говорить мне…
– Ты влюблена, Лидочка, не так ли? – говорю я. – Признайся мне, я твоя сестра.
– Да! да! да! – рыдает Лидочка.
– Что ж в этом страшного? Любовь всегда счастие. Если тот, кого ты любишь, также полюбит тебя – это счастие радости. Если нет – это счастие горя. И я не знаю, которое из двух выше, прекраснее, благороднее. Второе – глубже и острее, но первое – шире и лучезарнее…
Лидочка рыдает.
– Потом, тебе 18 лет, Лидочка. «Сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты». Тебе не верится сейчас, что твои мечты – «легкие», тебе кажется, что они тяжелее всей вселенной и раздавят тебя. И мне так казалось, когда я любила в первый раз. Но поверь опыту жизни: всякая любовь проходит, всякое чувство сменяется другим… Лидочка рыдает.