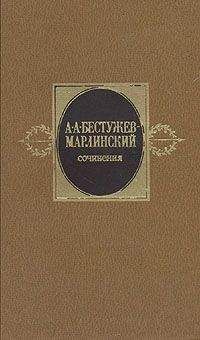Змеев знал эту стратегию, конечно, не хуже моего; и вот почему только вскользь бросил две или три ракеты приветствий Надине, когда она приехала; но явился перед ней с требованием на пятый французский кадриль уже в то время, когда мраморные стены и зеркала потускли и тщеславие женское по необходимости должно было искать отражения в глазах своего партнера.
— Может быть, Надежда Петровна удостоит взглянуть на свои таблетки, — сказал он почтительно. — Я жду, как нежившая душа, своего призыва к жизни!
— Нежившая или отжившая, капитан, во всяком случае вы можете быть уверены, что мне не нужно прибегать к воспоминаниям из слоновой кости, когда дело идет о вас. Я думаю даже, что, если б мне случилось ошибиться в очереди, конечно, не вы бы в этом проиграли.
— О, конечно, не я, сударыня! Впрочем, я слишком совестлив для желания вам проигрыша!.. Итак, пусть старшинство решит производство в счастливцы — точно ли мне предназначена эта четверть часа?..
— Вам, капитан, вам, по праву и по воле, — отвечала Надина, подавая ему нераскрытые таблетки. — Убеждены ль вы теперь, господин маловерный? — примолвила она, вставая и ласково опершись на его руку.
— Тысячу извинений, сударыня! Я так мало избалован счастьем, что ему всего менее верю.
И хитрец выискал для vis-á-vis чуть ли не самого плохого танцора, а уж даму его можно было назвать живою антитезою красоты — и все это для того, чтоб ярче выказать прелесть Надины и собственную ловкость. Змеев повел атаку не хуже Карно и Кормонтеня, если бы Карно и Кормонтень занимались осадою слабостей вместо осады крепостей.
— В первой параллели надо быть забавным, — говорил он, — во второй — занимательным, в третьей трогательным и только в решительный час демаскировать брешь-батарею. Приступы в наш век — самым глупый анахронизм: при удаче вся слава отдана силе, а не уменью; при неудаче — стыд, и нет возврата! То ли дело капитуляция: поспорят, погрозят — и обе стороны довольны!
Надина была большая охотница посмеяться, и, конечно, никто лучше Змеева не сумел бы насказан, более забавных замечаний и эпиграмм в краткие промежутки между шассе и балансе. Началась бесконечная мазурка, и полувлюбленный капитан уселся рядом с Надиною, поневоле уступив сердечную ее сторону танцующему с ней кирасиру. Скрестив руки на груди, молча устремил он на нее глаза свои, и молчание его было одним из самых лестных его приветов.
Румянец удовлетворенного самолюбия разгорался на милом личике Надины от конгревовских взоров соседа.
— Вы не танцуете? — сказала ему она, поправляя свое оплечье, чтобы иметь предлог взглянуть туда, куда уж давно прильнуло ее вниманье.
Капитан склонился над кругленьким плечиком Надины так, что его дыхание зашевелило кружева оборки так, что за несколько лет тому назад подобным положением напрашивались на разрыв с дамою своих мыслей или на дуэль с мужем ее и компрометировали бы даже собственную жену. Autres temps autres soins![87] В то время как мы юными французскими фразами браним юную словесность, жены наши (слава богу: не мои) вводят в моду совершенно райское обхождение — un laisser faire, un laisser aller;[88] достойный остров Тихого океана.
— У меня недостало дерзости уморить со скуки даму, которая бы в забытьи от бога и добрых людей решилась со мной на мазурку, — отвечал Змеев. — Когда не мне выпала доля танцевать ее с вами, слишком жестоко было бы требовать жертвы танцевать ее с другою. «Все или ничего» — надпись моего щита, сударыня.
— Как вы добры к той, которую не выбрали! Как злы для всех, которых собрали в одно слово, чтобы всех уничтожить одним словом! Впрочем, я хорошо понимаю ваш расчет, капитан. Вы хотите служить при этой мазурке волонтером, чтобы, не имея никаких обязанностей, пользоваться всеми выгодами. Посмотрите, если полная красавица Лелеева не выберет вас…
— Неужели она хочет обмануть? Так ли глядит она, чтоб обманывать?
— Может быть, она хочет быть обманутою.
— Нет-с, этого не может быть, сударыня, даже и этого… Но она в самом деле катится на меня!..
— К вам, капитан; да, вам эта чаша здравия, увитая цветами, как на греческих пирах…
— О, да мимо идет чаша сия… — вскричал Змеев, комически всплеснув руками.
— Будьте миловиднее, кажитесь бодрее, идучи на казнь.
— Если б вы приняли мою исповедь, если б вы напутствовали меня, я бы сложил мою голову героем, — сказал Змеев, натягивая перчатку и извиняясь поклонами перед избравшей его дамой. — Grace done, ou coup de grace![89]
Он медленно, мерными шагами возвратился на свое место.
— Теперь я — покойник, сударыня, — молвил он, — отныне вам грех будет говорить или думать обо мне что-нибудь дурное.
— Я сбираюсь написать вам эпитафию, капитан.
— Бесконечно обязан за честь! это хоть кому даст желание убраться на тот свет как можно скорее. Со всем тем, ради бога, — прочь эпитафию! Лучшая из них — лесть, а лесть — одна из граней лжи. Какая ж радость обманывать после смерти!
— А, так вам радостно обманывать во время жизни? Очень благодарна вам за эту искренность того света! Я, однако ж, в этом свете ею воспользуюсь.
Разговор прерывался каждый миг. Змеев проклинал докучных дам и кавалеров, вместе с безвременными их выборами, и не скрывал этого от своей миленькой соседки.
— Вы неблагодарный, — сказала она. — Эти частые призывы должны льстить вашей любви к самому себе.
— Но знаете ли, сударыня, что истинная любовь уничтожает всякую другую? Пусть вы сочли бы меня за чудовище самолюбия; пусть бы я стал им в самом деле — однако ж и тогда я не променял бы радости сердца на удовольствие ног. Вот почему те дамы, которые выбирают меня, конечно, делают мне честь; но, признаюсь, те, что меня обходят, делают мне милость, — мало этого, благодеяние.
— Вы можете быть убеждены, что вперед я не выберу вас ни разу.