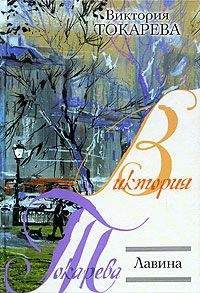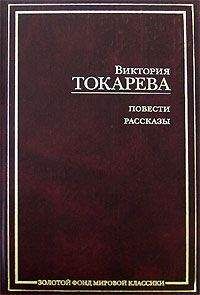Альтруизм - это разновидность эгоизма. Делая добро ближнему, человек упивается своим благородством. Если и не упивается, то, во всяком случае, доволен.
- Пойдемте с нами, - позвал тот, что был постарше. - Мы вас посадим...
Мои новые знакомые были из породы эгоистов-альтруистов. А скорее всего, они чередовали в себе черствость с благородством, принципиальность с беспринципностью. Я редко встречал только хамов или только благородных. Человек, как правило, чередует в себе состояния. Для общего психологическго баланса.
- А зачем вы ногти красите? - спросил тот, что помоложе.
Я вспомнил про маникюр, а заодно и про маникюршу. За эти несколько минут я успел ее забыть. Самолеты - ушедший и предстоящий - полностью вытеснили из меня хрупкое чувство.
Влюбленности похожи на сорванные цветы и на падающие звезды. Они так же украшают жизнь и так же быстро гибнут.
Каждый смертен, но человечество бессмертно. Это бессмертие обеспечивает любовь.
Я забыл царевну-лягушку, но оттого, что я был влюблен, я как бы прикоснулся к бессмертию и стал немножечко моложе.
Самолет взвыл, потом стал набирать отчаяние внутри себя. Это отчаяние погнало самолет по взлетной полосе. Он все сильнее мчался и все сильнее, неистовствовал, доводя звук до какого-то невероятного бесовского напряжения. И когда уже невозможно было вынести, самолет вдруг оторвался от земли и успокоился. Повис в воздухе.
Люди удрученно молчали. Они были заключены в капсулу самолета, от них ничего не зависело, и они ни в чем не были уверены.
Я заметил, что в поезде на отправление не обращают внимания и сразу же после отхода начинают есть крутые яйца и копченую колбасу. В самолете совсем по-другому. Человеку не свойственно отрываться от земли, он чувствует неестественность своего положения и недоверие к самолету.
Против меня сидел мальчик лет шестнадцати. Он был красивый и серьезный, и хотелось говорить ему "вы".
Рядом - его папа. Мы с ним примерно ровесники, но выглядим по-разному: папа выглядит респектабельно, соответственно своему возрасту и общественному положению. Он соответствует, а я нет. Я уставший, без мальчишеской романтики и без взрослых обязательств.
Папа подвинул свое плечо к плечу сына, а мальчик чуть заметно вжал свое плечо в отцовское, как бы заряжаясь его любовью и защитой.
Самолет набрал высоту. На крыльях появились крупные капли.
Я смотрел вниз на облака и думал: "Если и выпаду, то облака спружинят и задержат мои семьдесят шесть килограммов".
Мне вдруг превыше всего захотелось коснуться правым плечом своего отца, а левым - своего сына: справа - прошлое, слева - будущее, а я на живом стыке двух времен. У меня есть корни и есть ростки. Значит, я есмь.
Я откинулся в кресле, прикрыл глаза.
Самолет мерно гудел и, казалось, не двигался, а просто висел с включенным мотором.
...Крыло начало медленно отваливаться. Оно повисло, как перебитое, потом отделилось от самолета и осталось где-то позади. А на том месте, где оно было, обозначилась дыра.
Люди закричали. Крик все нарастал и уже перестал быть похожим на человеческий крик. Я почувствовал, как меня тянет, всасывает в эту дыру. Я расставил руки и ноги, как краб, чтобы уцепиться, задержаться. Но меня туго и окончательно выбило из самолета. Я захлебнулся леденящим холодом и полетел. Мимо меня, как падающая звезда, пролетел горящий мальчик. И я заплакал. Я летел и подробно плакал по себе. Облако меня обмануло. Оно не спружинило, а пропустило меня, и я увидел землю, тяжело летящую мне навстречу.
...Я проснулся от толчка.
Самолет шел по бетонной дорожке. Стюардесса стояла в конце салона и желала чего-то хорошего.
Шел восьмой день отдыха.
Ко мне заглянул архитектор и спросил, не хочу ли я совершить восхождение на Кикимору. Я не знал, хочу или нет, но сказал, что очень хочу.
Я снимал комнатку неподалеку от моря, у подножия горы Кикиморы. Вместе со мной в доме жили архитектор из Львова с женой и сыном жены.
Архитектор был рыжий и улыбчивый, как клоун. На вопрос: "Как жизнь?" - он отвечал: "Замечательно" - с такой убежденностью, что тут же хотелось поверить и порадоваться вместе с ним.
Архитектор терпеть не мог юг и говорил, что человек, рожденный в средней полосе, должен жить в средней полосе, в левитановском пейзаже. На юг он поехал лечиться от предынфарктного состояния.
Врачи предложили архитектору лечь в больницу, но он решил: если лечь в больницу, смотреть в потолок и слушать свое сердце - надвинутся тревожные отрицательные эмоции и сердце обязательно разорвется. Надо ехать на юг, плавать в море и бегать по горам. Надо принципиально не замечать своего сердца, и тогда оно подчинится. Как женщина.
Жена архитектора, как я ее понял, - современная хищница, но не в вульгарном понимании: поймать, сожрать. Орудие захвата у современных хищниц: нежность, преданность - подлинные чувства, которым нет цены. Но если жертва не поддается, если они видят, что совершили неудачный рывок в будущее, они полностью изымают свой вклад и помещают его в другого человека. И опять нежность, и опять верность, и не в чем упрекнуть.
У таких женщин, как правило, по одному ребенку, по нескольку браков и неврастения от желания объять необъятное. Они помногу говорят и уходят в слова, как алкоголик в водку. Они могут разговаривать по телефону по десять часов в день. Если бы словесную энергию можно было использовать в мирных целях, отпала бы надобность в электростанциях, работающих на каменном угле.
Жена архитектора любила проговаривать со мной свою жизнь и свои сомнения. Общаться с ней было очень удобно. Она совершенно не интересовалась собеседником и говорила только о себе, поэтому беседа шла в форме монолога. Я в это время думал о себе - тоже в форме монолога. И если бы наши голоса - ее звучащий, а мой внутренний - наложить один на другой, то получился бы оперный дуэт, когда певцы стоят в разных углах сцены и, глядя в зал, каждый поет про свое.
Сын жены архитектора Вадик - это особая статья. Ему семь лет. Он постоянно рисовал в альбоме, не рисовал даже, а набрасывал. Из-под его карандаша возникали островерхие средневековые замки, рыцари в тяжелых доспехах с паучьими ножками. У каждого рыцаря свой характер. Иногда Вадик зарисовывал свои сны, похожие на ужасы из фильмов Хичкока.
Я звал Вадика "чревовещатель", потому что разговаривал он не разжимая губ. Чревовещал, как правило, два слова: "Не хочу". Что бы ему ни предлагали: ягоды, фрукты, море, послеобеденный сон, - он ничего не хотел и был углублен в какую-то недетскую, немальчишескую жизнь. Это был сложившийся творческий человек с тяжелым, отвратительным характером. И только когда он пугался или плакал, было видно, что все-таки ребенок.
Я быстро снарядился и вышел на веранду. Вся команда, включая мальчика, стояла во дворе.
Я примкнул к группе. Архитектор тут же двинулся с места в карьер, как конь, которого крепко хлестнули.
Была середина дня. Солнце упирало свои лучи в самую макушку, и через две минуты я понял, что устал. Больше всего мне хотелось сейчас лечь на диван и раскрыть "Иностранную литературу" на прерванной странице. Это было желание, продиктованное чувством, но умом я понимал, что лежать с журналом на диване я могу всю зиму, весну и осень, а попасть на Кикимору - только во время отпуска и только в том случае, если кто-то позовет меня с собой.
Через несколько минут мы подошли к подножию горы и начали восхождение. Вдоль тропинки росла зеленая трава с сухими цветочками, сухой кустарник. Камни и камешки имели какой-то бытовой вид. Казалось, они не скатились с гор, а возникли здесь сами по себе.
Архитектор шел впереди всех - поднимался ровно и мощно, как лифт. Вадик тащился, упрямо глядя себе под ноги, и я ждал, когда он чего-нибудь захочет - именно того, что ему не смогут предложить: ягоды, фрукты, море, послеобеденный сон. Жена архитектора шла, как истая горянка. Горянки привыкли к горным перевалам и даже вяжут по дороге.
Я остановился, снял рубашку и понес ее в руке. Рубашка ничего не весила, но я воспринимал ее как тяжесть. Я устал. Я чувствовал, что дышу по привычке жить. Вдыхаю и выдыхаю, но воздух не утомляет меня...
...Где-то в Старопанском переулке живет мой сын Антон Климов. С его мамой мы разошлись десять лет назад. Мне понятно, почему мы разошлись, но мне до сих пор непонятно, почему мы поженились. Наверное, приняли за любовь томление молодых тел. Мы приняли одно за другое. Совершили ошибку. Антон - результат ошибки, но тем не менее он живет себе и здравствует, и мы с ним два без вины виноватых мужика - большой и маленький.
Он без отца. Я без сына. Мы поровну платим судьбе.
Но если я женюсь в другой раз да еще заведу другого ребенка, то я как бы оставляю Антона на обочине своей жизни, а сам еду дальше. Я-то могу поехать, но с каким лицом, если за моей спиной стоит и смотрит мне вслед светловолосый мальчик, подвижный как ртуть, говорящий хрипатым басом.