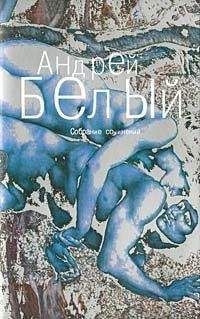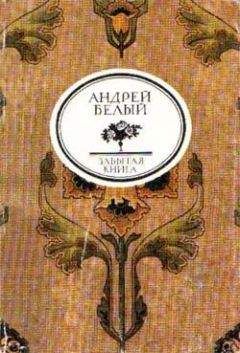Злобою же дня для Ивана Ивановича обыкновенно служили: изречение Фомы Кемпийского: «Читай такие книги, кои более производи сердечного сокрушения, нежели занятия» … Или латинские лозунги. И так далее, далее.
При пробужденьи, до выбора лозунга упражнялся Иван Иваныч, минут эдак десять, в сосредоточеньи мысли; он при этом брал очень простую, легчайшую мысль, например — о булавке; поставив булавку перед умственным взором своим, обыкновенно продумывал он все, касающееся булавки, избегая тщательно посторонних ассоциаций и промыслов; упражнение на языке Ивана Иваныча называлося первым правилом: правилом умственного контроля; а все то, что было связано с выбранным лозунгом, на языке Ивана Ивановича называлося вторым правилом: инициативою к действию; было еще у Ивана Иваныча третье, четвертое, пятое правило; но о них распространяться не стоит; говорят: у Ивана Иваныча был такой по наследству доставшийся дневничок; и его-то вот проводил в свою жизнь, исполняя все правила на протяжении тридцати с лишним лет; и притом с такою ловкостью, что сослуживцы Ивана Ивановича не подозревали о подлинном роде занятий его, по отношению к которому безупречная служба в музее была только маской, скрывавшей мудренейшие упражнения в чисто нравственной сфере: Иван Иванович был собственно йог, а не служащий.
Чудаки такие доселе живут среди вас, благородные граждане; вы их видите ежедневно, вы с ними находитесь в непрестанном общении, не проницая их рода занятий, и — наблюдая лишь странности.
За Иваном Ивановичем, несомненно, водилася странность: он три лишним года не произнес личного местоимения «я», так искусно лавируя, что никто бы не мог его уличить, если бы в эти три с лишним года спросили Ивaнa Иваныча:
— А скажите-ка, вы читали сегодня газету, — то Иван Иванович ответил бы: «да, читал», вместо того, чтобы ответить: «да, я читал».
Это правило воздержания от употребления личного местоимения «я» называлося им: правилом укрепленья самосознания. За три с лишним года Иван Иваныч Коробкин приобрел очень крупную власть в употреблении личного местоимения «я». И потом уже, когда помощник управляющего музеем усумнился однажды в целесообразности расстановки музейских предметов по плану Ивана Ивановича, Иван Иванович заметил ему:
— Свое дело Я знаю.
И так сказал, что помощнику управляющего показалось: перед ним расступилися стены; и он пролетел непосредственно в тартарары с своим собственным планом.
Вечером разглагольствовал он:
— Знаете ли, Аграфена Кондратьевна, все на свете бывает… Говорят, есть масоны; про Маевского говорили, что он есть масон; перстень там какой-то носил. Может быть, среди наших знакомых, — ага! разгуливают преспокойно они; только мы их не знаем.
Правила упражнения приводили Ивана Ивановича в те особые состояния сознания, которые он разделял на, так сказать, три сферы: 1) на концентрацию мысли, 2) на медитацию, 3) на контемплацию, заимствуя терминологию эту от средневековой школы монахов из монастыря св. Виктора.
Концентрация приводила его в состояние ясности мысли, граничащей с яснозрением; медитация вводила всю душу его в круг поставленной мысли. А контемплация?..
Но мы лучше опишем ее.
3.
Прижав свои руки к коленам и вытянувшись на кожаном кресле, вперялся в какой-то ему одному понимаемый мысленный ход, проницающий все его существо; этот мысленный ход вызывал остроту состояний сознаний, сопровождался порослью новообразованных ощущений семидесятилетнего, иссохшего тела.
Вокруг рук начинались пожары каких-то секущих биений, биении ощущалися мыслями, излитыми внутрь рук, так что мыслили руки: и — раскрывалася голова, как бутон в лепестковую, пышнейшую розу, и лопасти мозга протягивались в ощущенье, как руки вокруг головы, выхватывая из космического пространства добычу мыслей людей, окружавших Ивана Иваныча, отчего могло показаться, что этот последний умеет проглатывать мысли.
Иван Иваныч раскидывал над собою какие-то руки из рук; и эти руки из рук начинали кружиться: его уносили.
И знакомые абрисы книг, полок, шкапчика, столика, комнаты становились сквозными какими-то; и сквозь них проступала какая-то новая жизнь всекипящего мира; в нем самом, вне его все вскипало, крутилось, дымилось в каких-то летающих струях; все какие-то искрометы, парчи, пелены из тончайших светящих субстанций, крутясь, расширяясь без меры, себя ощущал, как кипящий клубок своих мысленных струй.
Многокрылый, меняющий очертание, он снимался с себя самого, чтобы броситься в всекипящее море существ, представляющих: искрометы, парчи, пелены из тончайших, светящих субстанций, в которые проливались: парчи, пелены из тончайших светящих субстанций Ивана Ивановича.
Так он мог, из себя изливаясь, вливаться в кипящую жизнь обстающих существ; изливаяся из существа в существо, мог он внятно восчувствовать душу того иль другого из обитателей дома в Калошином переулке; и даже: восчувствовать душу, — ну, например, Милюкова, Винавера, Карла Либкнехта, а может быть, души: Бисмарка, Биконсфильда, Наполеона и Ганнибала; среди кипятящихся, колесящих, светящих, теплящих образований, куда погружался он, были, конечно, и деятели давно отошедшей эпохи.
Многое мог подсматривать он в этом мире; но он не мог обложить внятным словом узнания; и попытайся он обложить внятным словом узнания, — внятное слово должно б непременно распасться и стать — венком слов: метаморфозою словесных значений, тысячемыслием тысячезвучий, таящихся в нем: быть невнятицей.
В этой невнятице проживал много лет.
И оттого-то: привычка к молчанию или привычка обмениваться с окружающими при помощи прописей составляла естественный обиход неестественной жизни.
Иван Иванович Коробкин, перекипая от образа к образу, выносился за образы; и колесящее образование его ритмов (душевных колес) растворялось в безбрежности истекающими кругами (кольцами ряби на озере); и в безобразном таяло; тут субстанция его состояний сознания уподоблялася мировой пустоте; он же сам — пустота, немота, безглагольность, бездвижность — взирал на свой собственный вспыхнувший центр пустоты, как на ты, стоящее посередине души его; это ты принимало напечатление Неизвестного, казавшегося исконно Известным, Кого мы забыли; напечатление Неизвестного, казавшегося исконно Известным, кого мы забыли, гласило:
И когда возвращался в себя, находя себя в кресле (в удобнейших туфлях), то он ощущал невероятную радость тепла, разлитого посредине груди.
Вот что есть контемплация!
Иван Иванович Коробкин доподлинно знал: времена — накопились; бессрочное — принадвинулось; будут — новые дни; подымается новая эра; и с грохотом гибнет величие великолепной культуры; но под обломками старого новые всходы встают.
Иван Иванович Коробкин всем сердцем любил малолетних; он знал — среди детей будут дети; про Ивана Ивановича распространяли нелепые слухи о том, что он был убежденнейшим не то чтобы мистиком, а… так сказать… гностиком, — апокалиптиком; не то социалистом, не то хилиастом.
4.
Среди музейных своих сослуживцев он вел себя как человек старомодный, чуждавшийся всякой политики; даже боявшийся политической жизни; более всего он чуждался кадетов; деятели, принадлежащие к партии народной свободы, при редких беседах с Коробкиным, заявляли решительно, что Иван Иваныч Коробкин отъявленный ретроград; так, однажды философ-кадет развивал в помещении музея свой взгляд на идеальное государство, где принцип гуманности будет настолько расширен, что даже в тюрьмах будут предложены заключенным усовершенствованные способы развлекать себя и друг друга.
Тут Иван Иваныч прервал собеседника:
— Все-таки, будут тюрьмы?
На что тот ответил:
— А как же?
— А я полагал, что человечество проникнется явственным сознанием принципов справедливости и гуманности.
— Нет: тюрьмы будут… Но сидящие в заключении будут слушать симфонии. За стеною им будут наигрывать фуги Баха и сонаты Бетховена.
Но Иван Иваныч, сморкаясь, с лицом неприятным, сухим, напоминающим поэта и цензора Майкова, оборвал философствующего:
— А уж я предпочитаю тюрьму с насекомыми; и — без звуков Бетховена.
Так попал в ретрограды он.
Кроме того, Иван Иваныч Коробкин отрицал неизбежность войны в год войны; патриотическое одушевление не охватило его, и он полагал, вопреки очевидности, что из-за маленького и полудикого народца не стоило поднимать столько шуму; этим подал он повод всем думать, что в тайне германофильствует он: о правительстве он молчал и о Распутине не выражался; февральская революция не обрадовала его.