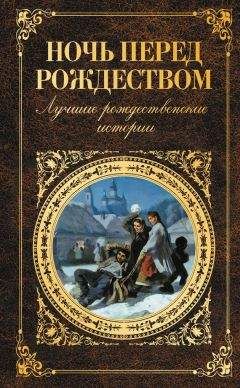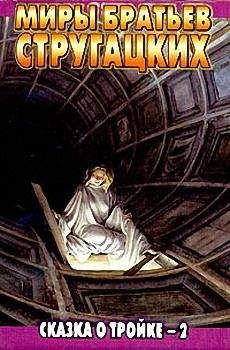На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.
И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.
Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.
– Это она тебе дала? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.
В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.
– А то кто же? Конечно, она.
Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.
– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.
– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.
– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву…
Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.
– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?
– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.
– Не буду… не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж… зачем?
Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.
– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.
– Не к чему. Скоро встану.
Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.
А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.
В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.
Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасичника.
Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед – все немец.
Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – знаменитый русский хирург и анатом.