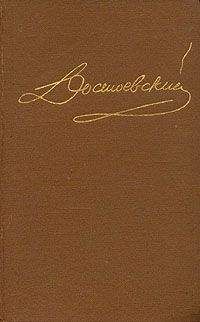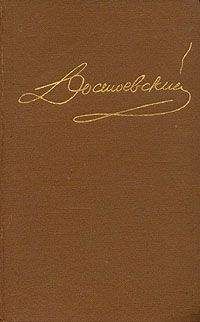Припоминал он и всё более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевесть все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать, то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны. Но ведь вы знаете причину.
«Что же! — мелькало в его голове, — вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шиш выходит. Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он приехал давеча от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить… Это один из блаженнейших дней его жизни… Теперь он возится с гостями, задает пир — скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний… Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку! А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? гм… Разумеется, сначала он испугался бы, онемел бы от замешательства. Я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, всё… Да, так и было бы, если б вошел всякий другой генерал, но не я… В том-то и дело, что всякий, да только не я…
Да, Степан Никифорович! Вот вы не понимали меня давеча, а вот вам и готовый пример.
Да-с. Мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии.
Какого героизма? Такого. Рассудите-ка: при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора, на десяти рублях, да ведь это замешательство, это — коловращенье идей, последний день Помпеи*, сумбур! Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет — не поймет. Ведь сказал же он: не выдержим. Да, но это вы, люди старые, люди паралича и косности, а я вы-дер-жу! Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного, и поступок дикий — в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте прислушать…
Ну… вот я, положим, вхожу: — они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся. Так-с, но тут-то я и выказываюсь: я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю: „Так и так, дескать, был у его превосходительства Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству… “ Ну, тут слегка, в смешном этак виде, рассказываю приключение с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком… „Ну — слышу музыку, любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и… женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю!“ Прогонишь! Каково словечко для подчиненного. Какой уж тут черт прогонишь! Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищенья, не сообразится даже на первый раз!..
Ну, что может быть проще, изящнее такого поступка! Зачем я вошел? Это другой вопрос! Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок!
Гм… Об чем, бишь, я думал? Да!
Ну уж, конечно, они меня посадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный али родственник, отставной штабс-капитан с красным носом… Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю ее, ободряю гостей. Прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь, одним словом — я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой… Гм… то-то и есть, что я всё еще, кажется, немного того… то есть не пьян, а так…
…Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков… Но нравственно, нравственно дело другое: они поймут и оценят… Мой поступок воскресит в них всё благородство… Ну и сижу полчаса… Даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. И уж только что я произнесу „дела“, у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница-с. Земля и небо. Я не то чтобы хотел это внушать, но надо же… даже в нравственном смысле необходимо, что уж там ни говори. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и мигом все ободрятся… Пошучу еще раз с молодой; гм… даже вот что: намекну, что приду опять ровнешенько через девять месяцев в качестве кума, хе-хе! А она, верно, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут, молодая покраснеет; я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее и… и назавтра в канцелярии мой подвиг уже известен. Назавтра я опять строг, назавтра я опять взыскателен, даже неумолим, но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают: „Он строг как начальник, но как человек — он ангел!“ И вот я победил; я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет; они уж мои; я отец, они дети… Ну-тка, ваше превосходительство, Степан Никифорович, подите-ка сделайте эдак…
…Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их… и т. д. и т. д. Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу… Ведь он десять рублей в месяц жалованья получает!.. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, али что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету… У всех в сердцах буду напечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то!..»
Так или почти так рассуждал Иван Ильич (господа, мало ли что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом состоянии). Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь полминуты, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаньицами и, мысленно пристыдив Степана Никифоровича, преспокойно отправился бы домой и лег спать. И славно бы сделал! Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая.
Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича.
— Не выдержим! — повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь.
— Хи-хи-хи! — вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой.
— А вот и посмотрим, как не выдержим! — решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова.
Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую шавку, которая, более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу, так, как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир*, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бламанже*. Раздавленный галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль: не улизнуть ли сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал и на него уж никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в премаленькой передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бекешами, салопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрбас, всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашеным деревянным столиком, при одной сальной свечке, и во всю ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих, в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем содомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека: «Кавалеры вперед, шен де дам, балансе!*» и проч., и проч. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал…