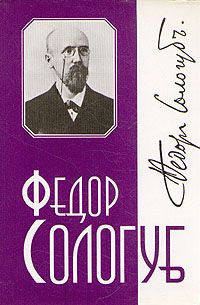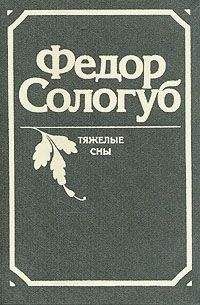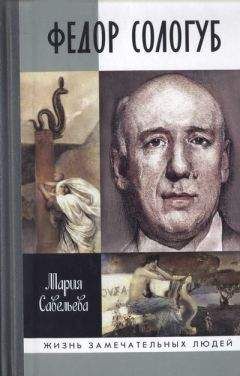«Отчего Лелечка все вспоминает свое тютю? Как это ей не надоест одно и то же, — закрывать глаза и прятать лицо? Может быть, — думала Серафима Александровна, — у Лелечки нет такого сильного влечения к миру, как у других детей, который неотступно глядят на вещи. Но если так, то не признак ли это органической слабости? Не зародыш ли это бессознательной неохоты жить?».
Предчувствия томили Серафиму Александровну. Ей стыдно было, перед Федосьей и перед собой, бросить игру в прятки с Лелечкой. Но эта игра становилась для неё мучительной; тем более мучительной, что все-таки хотелось поиграть ею, и все более тянуло прятаться от Лелечки или отыскивать спрятавшуюся Лелечку. Серафима Александровна даже сама иногда затевала эту игру, — с тяжелым сердцем, страдая, как от какого-нибудь дурного дела о котором знаешь, что не надо его делать, и все же делаешь.
Тяжелый день выдался у Серафимы Александровны.
V
Лелечка собиралась спать. Её глазки слипались от усталости, когда она забралась на кроватку, огороженную сутками. Мама прикрыла ее голубым одеяльцем. Лелечка выпростала из-под одеяльца белые, нежные рученки, и протянула их, чтобы обнять мамочку. Мама наклонилась. Лелечка, с нежным выражением на сонном лице, поцеловала маму, и опустила голову на подушки. Её руки спрятались под одеялом, и Лелечка прошептала:
— Ручки тютю.
Мамино сердце замерло, — Лелечка лежала такая маленькая, слабая, тихая. Лелечка слабо улыбнулась, закрыла глаза, и тихонько сказала:
— Глазки тютю.
И потом еще тише:
— Лелечка тютю.
С этими словами она заснула, прижимаясь щекою к подушке, закрытая одеяльцем, маленькая, слабая. Мама смотрела на нее тоскующими глазами.
И долго стояла Серафима Александровна над Лелечкиной кроваткой, с нежностью и опасением глядя на Лелечку.
«Я — мать: неужели я не уберегу?» — думала она, воображая разные напасти, которые могут угрожать Лелечке.
Долго молилась она в эту ночь, — но тоска её не облегчалась молитвою.
VI
Прошло несколько дней. Лелечка простудилась. Ночью у неё сделался жар. Когда разбуженная Федосьею Серафима Александровна пришла к Лелечке и увидела ее, жаркую, беспокойную, страдающую, она вспомнила прежде всего зловещую примету, — и безнадежное в первую минуту отчаяние овладело ею.
Позвали врача, сделали все, что делают в таких случаях, — но неизбежное совершилось. Серафима Александровна старалась утешать себя надеждой на то, что Лелечка выздоровеет и будет опять улыбаться и играть, — но это казалось ей таким несбыточным счастьем! А Лелечка слабела с каждым часом.
Все притворялись спокойными, чтобы не пугать Серафиму Александровну, — но их неискренние лица наводили на нее тоску.
Смертную тоску наводили на нее Федосьины всхлипывания и причитания:
— Пряталась, пряталась Лелечка!
Но мысли Серафимы Александровны были смутны, и она плохо понимала, что делается.
Лелечка вся горела, и поминутно забывалась, и бредила. Но когда она приходила в сознание, она выносила свою боль и свое томление с нужною кротостью, и слабо улыбалась мамочке, чтоб мамочка не думала, что ей очень больно. Томительные, как кошмар, прошли три дня. Лелечка совсем ослабела. Но она не понимала, что умирает.
Она взглянула на мать помутившимися глазами, и залепетала еле слышным, хриплым голосом:
— Тютю, мамочка! Сделай тютю, мамочка!
Серафима Александровна спрятала лицо за занавесками Лелечкиной кровати. Какая тоска!
— Мамочка! — еле слышно позвала Лелечка.
Мама наклонилась к Лелечке, — и Лелечка в последний раз увидала мутнеющими глазами мамочкино бледное, отчаянное лицо.
— Мамочка белая! — прошептала Лелечка.
Бледное мамочкино лицо померкло, и Лелечке стало темно. Она слабо схватилась руками за край одеяла, и шепнула:
— Тютю.
Что-то захрипело в её горле, Лелечка открыла и опять закрыла быстро побледневшие губы, и умерла.
В тупом отчаянии Серафима Александровна оставила Лелечку, и вышла из комнаты. Она встретила мужа.
— Лелечка умерла, — сказала она тихо, почти беззвучным голосом.
Сергей Модестович опасливо посмотрел на её бледное лицо. Его поразило странное отупение в чертах этого, прежде оживленного, красивого лица.
VII
Лелечку одели, положили в маленький гроб, и вынесли в залу. Серафима Александровна стояла у гроба, и тупо смотрела на мертвую дочку. Сергей Модестович подошел к жене, и, утешая ее пустыми, холодными словами, старался отвести ее от гроба. Серафима Александровна улыбалась.
— Отойди, — сказала она тихо. — Лелечка играет. Она сейчас встанет.
— Сима, друг мой, не расстраивай себя, — шопотом говорил Сергей Модестович. — Надо покоряться судьбе.
— Она встанет, — упрямо повторила Серафима Александровна, остановившимися глазами глядя на мертвую девочку.
Сергей Модестович опасливо оглянулся: он боялся неприличного и смешного.
— Сима, не расстраивай себя, — опять заговорил он. — Это было бы чудо, а чудес в девятнадцатом веке не бывает.
Сказав эти слова, Сергей Модестович смутно по-чувствовал их несоответствие с тем, что совершилось. Ему стало неловко и досадно.
Он взял жену под руку и осторожно отвел от гроба. Серафима Александровна не сопротивлялась.
Её лицо казалось спокойным, и глаза были сухи. Она пошла в детскую, и стала ходить по ней, заглядывая в те места, где прежде пряталась Лелечка. Кругом всей комнаты обошла она, нагибаясь, чтобы заглянуть под стол или под кроватку, и веселым голосом приговаривала:
— Где моя деточка? Где моя Лелечка?
Обойдя комнату вокруг, она снова начала свои поиски, Федосья неподвижно, с унылым лицом, сидела в углу, испуганно смотрела на барыню, потом вдруг зарыдала и завопила в голос:
— Пряталась, пряталась Лелечка, ангельская душенька!
Серафима Александровна вздрогнула, остановилась, в недоумении посмотрела на Федосью, заплакала, и тихо пошла из детской.
VIII
Сергей Модестович торопил похороны. Он понимал, что Серафима Александровна чрезмерно потрясена внезапным горем и, опасаясь за её разум, думал, что Лелечку надо поскорее похоронить, чтобы мать развлеклась и утешилась.
Утром Серафима Александровна оделась особенно тщательно, — для Лелечки. Когда она пришла в зал, между нею и Лелечкой было много людей, ходили священник и дьякон, плавал синий дым, пахло ладаном. С тупой тяжестью в голове Серафима Александровна подошла к Лелечке. Лелечка лежала тихая, бледная, и жалостливо улыбалась. Серафима Александровна положила голову щекою на край Лелечкина гроба, и шепнула:
— Тютю, деточка!
Деточка не отвечала. Вокруг Серафимы Александровны произошло какое-то движение, суматоха, — чужие, ненужные лица наклонились к ней, кто-то поддержал ее — а Лелечку куда-то понесли.
Серафима Александровна выпрямилась, растерянно ахнула, улыбнулась, и громко сказала:
— Лелечка!
Лелечку уносили, — мать бросилась за гробом с отчаянным воплем, — её удержали. Она метнулась за дверь, через которую несли Лелечку, села там на пол и, глядя в щель, крикнула:
— Лелечка, тютю!
Потом она высунула голову из-за двери, и засмеялась.
Лелечку торопливо уносили от матери, и шествие похоже стало на бегство.
I
Приближалась Пасха. Эспер Константинович Саксаулов был в смутном, томительном настроении. Началось это, кажется, с того, что у Городищевых его спросили:
— Где вы встречаете праздник?
Саксаулов почему-то замедлил ответом.
Хозяйка, полная дама, близорукая, суетливая, сказала:
— Приходите к нам.
Саксаулову стало досадно, — не на барышню ли, которая, при словах матери, быстро глянула на него и сейчас же опять отвела глаза, продолжая разговор с молодым приват-доцентом?
В Саксаулове маменьки взрослых дочек ещё видели жениха, что его раздражало. Он считал себя старым холостяком, — а ему было всего тридцать семь лет. Он резко ответил:
— Благодарю вас. Я всегда провожу эту ночь дома.
Барышня взглянула на него, улыбнулась и спросила:
— С кем?
— Один, — с оттенком удивления в голосе ответил ей Саксаулов.
— Вы — мизантроп, — сказала госпожа Городищева, как-то кисло улыбаясь.
Саксаулов дорожил своею свободой. Порою ему казалось странным, что и он когда-то был близок к женитьбе. Теперь он обжился в своей небольшой, со строгим вкусом убранной квартире, привык к своему камердинеру, пожилому, степенному Федоту, и к его не менее степенной жене Христине, готовившей Саксаулову обед, — и убедил себя, что не женится из верности к своей первой любви. На самом же деле, сердце его холодело от равнодушия, порождённого одинокой, рассеянной жизнью.