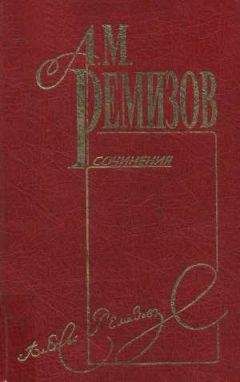А в ту ночь, когда я вернулся домой из Булони от Куковникова и лег, не засиживаясь – очень устал я – неожиданно я сразу заснул, и в этом внезапном первом сне голову мою расстреляли; я чувствовал приставленный револьвер и даже крикнул, когда увидел ее, расколотой пополам. И потом долго не мог заснуть, я продолжал думать начатое у Куковникова, нет, раньше – с булавок и иголок, разбудивших меня, и под всеми моими думами одна была, и сам я лежал, как уголь.
Как когда-то в Берлине появился внезапно Пильняк267, так нежданно-негаданно в Париже голландец Вангруд. Что Пильняк – понятно, тогда молодой литератор, было общее, и о чем спросить, и чего сказать друг другу. Но Карл Вангруд, агент страхования жизни, какими судьбами он попал к нам, неисповедимо.
Карл Вангруд попал к нам, чтобы жрать и разговаривать. «Жрать» не потому, чтобы нуждался, а потому, как сам он выразился, что «предпочитает домашний стол» – в ресторанах и дерут, и кто их знает, чего еще подвалят. А «разговаривать» – «для практики русского языка».
Всякое утро Вангруд появлялся у нас в 11 пить кофий. Первый кофе он пил в своем отеле по соседству на roe Pierre Guérin – разве это не судьба, соседство?
Утренние часы присутствие постороннего, за которым надо еще ухаживать, сущая напасть. Впрочем, Вангруд с первого дня заявил, что он «не стесняющийся». Он подбирал со стола все, что случалось у нас, добытое правдами и неправдами, пьет и ест медленно, пример, как надо разжевывать и, разжевав, глотать.
После кофею я мою посуду. А он сосредоточенно высиживался, и видно было, старается ни о чем не думать, чтобы не мешать пищеварению. Для меня было самое нетерпеливое ждать это голландское пищеварение. Оправившись, Вангруд уходил по своим делам.
Час наших раздумий – когда нет денег, чай с хлебом заменял обед, а теперь надо было непременно что-то готовить.
К обеду возвращался Вангруд, тщательно мыл руки и садился к столу. И, как за кофеем, жрал со всей медлительностью и расстановкой все, что тащу ему из кухни в «кукушкину». А когда потом на кухне я мою посуду, он усаживался за мой стол писать в Амстердам письма. И писал он не торопясь, с прохладцей и любованием – каллиграф.
Как-то, оттого ли что у меня душа впечатлительная и застенчивая, у меня сорвалось – я заметил, что в отеле есть стол и бесплатно дают бумагу и конверты.
«Но там стол качается!» – отозвался Вангруд.
Высидевшись за письмами, Вангруд уступил мне стол и отправился мыть руки. И то же, как с письмами, не сравнить ни с какою медленностью – в хвосте стоять не так чувствительно.
Обыкновенно всех своих наброжих привязанностей я водил с собой. Исключение Вангруд. Он самостоятельно с моими рекомендательными письмами шел по нашим знакомым – «для практики русского языка». А если вечер был не занят, за вечерним чаем я читаю – он слушал необыкновенно внимательно, глотая глазами и ухом – «для практики русского языка». Потом разговоривали: он говорил по-русски, а я поправлял.
Книжниками не делаются, а зарождаются. Вангруд не помнит, когда б он не любил книгу, а собирает книги – с колыбели. По крайней мере, в пять лет у него была своя библиотека, собранная на шоколадные и игрушечные деньги.
Из современных писателей он облюбовал меня. У него были все мои книги – и русские и заграничные издания – а все, что появлялось в газетах и журналах, он вырезал и наклеивал.
Чем я его тронул? Мое – такое не голландское.268 Голландия, оттолкнувшая Петра от природно-московского. Амстердам и Москва, не знаю, с какого конца подойти, такая разноголосица.
Коверкая ударения до неузнаваемости слова, Вангруд на память произносил фразы из моей «Посолони» с той же сосредоточенностью, не спеша, как ел и писал письма.
Другим его литературным пристрастием был немецкий поэт Гундольф269 из школы Стефана Георге270. А все заключает Джойс: Вангруд знал не только «Улисса», но и комментарии.
По-немецки и по-английски он не вывертывал слова, как по-русски, до неузнаваемости.
И очень чувствителен к музыке. Но без толка глухой. Совсем не то что у меня – я музыку чувствую и без оркестра, я вдруг пронзаюсь музыкой, и все во мне поет. У него никакого голоса, о музыке он не «думал», но под музыку он умиляется, как при чтении «Посолони», стихов Гундольфа и страницы «без передышки» Джойса.
За стеной передают Бетховена. Вангруд отодвинул чашку – чай он любит моей заварки – и вдруг поднялся:
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt…271
без слуха на стертых глухих нотах, но как под стать выпевал он этот лавочный пошленький мотив, какой убогой человеческой радости! Вырвавшийся из звездной музыки нечеловеческих высот.
Вангруд приехал в Париж на неделю, а вот уж и третья кончается, прижился, а главное: «практика русского языка».
Рассчитывал я получить деньги, но со мной всегда история: или забывают, или оттягивают. Но с меня-то ведь требуют, и как объяснишь. Обыкновенно не верят и в лучшем случае с упреком и «вторичным» напоминанием терпят, а то просто требуют без никаких. Денег вовремя я не получил, и закрыли газ.
«Закрыли газ, – сказал я Вангруду, – придется питаться всухомятку».
«А что такое сухомятка?»
«Да так, без горячего».
«Очень интересно. Я буду всухомятку».
Как с газом, так и без газа, всякое утро неизменно в 11 появляется Вангруд пить кофий. Очень хлопотно было на спирту готовить. Медлительность, мне всегда тягостная, для него проходила незаметно, он принимал ее за основательность.
А «сухомятка», интересная как слово, ему не очень понравилась: день-два без горячего еще кое-как, а на третий, искренно удивленный, что и опять без супу, он попросил меня написать рекомендательные письма «для практики русского языка», но в такие дома, где едят не «всухомятку».
У всех еще в памяти «6-е февраля», и хотя лето загородило это «парижское восстание», я схватился за него, вспомнив магическое действие моего «вооруженного восстания» на 5-ой Рождественской в Петербурге в 1906 году:272случай с Гюнтером273. И за кофеем «всухомятку» напомнил Вангруду недавний «трагический» случай, когда на Конкорд какого-то депутата выпороли, и что снова предполагается и потому в Париже небезопасно.
«А я не буду выходить на улицу», – безо всякого беспокойства, а даже с каким-то удовольствием ответил Вангруд.
Где было искать спасения – мое испытанное верное средство, «страшные слова», оказалось впустую. Вангруд не поддался. И мне ничего не оставалось как только покориться своей участи, – как это бывает во сне, терпеть, пока не проснешься.
Так однажды я проснулся: Вангруд, закончив свои дела по страхованию жизни, исчез.
Но долго еще мне помнился этот сон, и если мне случалось при знакомых, однажды получивших мои рекомендательные письма, к слову сказать «возвращается» – у всех расширялись глаза и в зрачках показывался «глаголь» – я читаю «голландец».
Или явление голландца так надо понять, что русскому без голландца не прожить и история России без Голландии немыслима – Петрова печать.
Главный и основной порок современной литературы – отсутствие юмора. Этот порок всеобщий, как в романах, повестях и рассказах глубокомысленных, так и в «глухоголовых», и потому, должно быть, мало кем замечаем. Но мне, отравленному Гоголем, Салтыковым, Лесковым и Слепцовым, всегда очень чувствительно, и признаюсь, редкую книгу удалось дочитать до конца, а рассказы бросаю на половине – нет никакой «физической» возможности: такая неимоверная скучища. А между тем «живая человеческая жизнь», пронизанная трудом и болью, первыми и последними слезами, «живая жизнь», которая дает матерьял для романов, повестей и рассказов, в самом существе своем, как явление ненормальное в мировом строе других жизней, еще недавно бы сказали: «глубоко трагична», – да, глубоко трагична, но не вернее ли будет: «трагична и всегда смехотворна».
У Балдахала завелись в голове под черепом тараканы. Как же теперь быть? – спрашивал он приятелей. Да, ничего, говорят, будут вытаскивать из головы: теперь это совсем пустая операция.
Тараканами, не предвещавшими ничего хорошего, закончился год. Балдахал же и начал новый.
Я вернулся домой поздно и нашел в замочной скважине всунутую записку – листок из блокнота. Оттого, что над ней мудровали, буквы расшатались, едва разобрал:
«А. А. Корнетову. Был и не застал вас дома, пишу карандашом, зайду в в…».
Места не хватило и на самом краешке вроде «в».
Но это оказалось не «в», а «п»: в новый год по старому стилю, в понедельник, ранним утром явился Балдахал. Он выбрал самый непоказанный час, но ведь он предупреждал – записка! – чтобы успеть обойти всех знакомых с последним, только что полученным из Риги известием о предполагаемом разделе России: Украина – Германии, Сибирь – Японии…