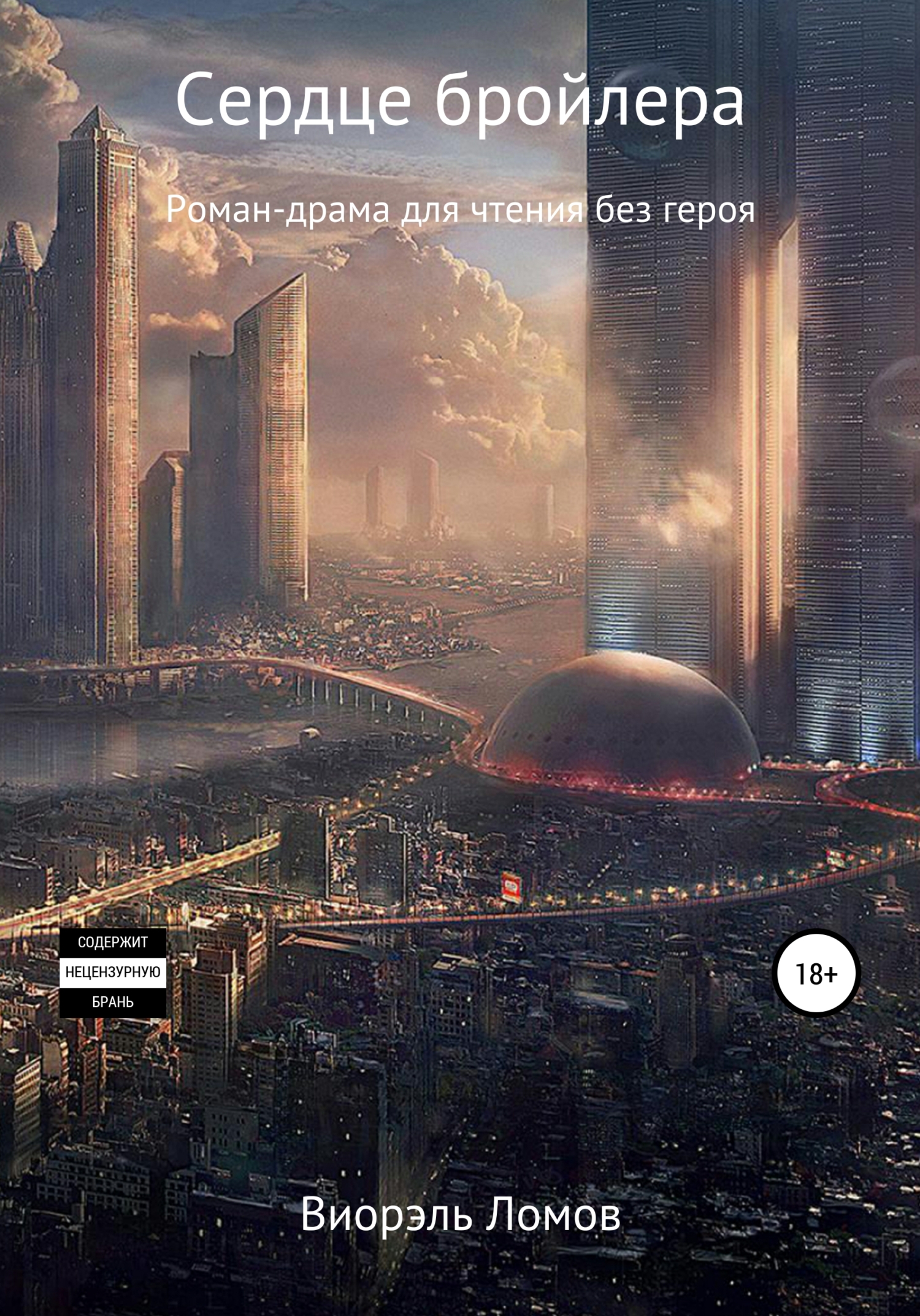окликнуть Алексея. Она вдруг осознала, что из огромной прошлой жизни, в которой было столько всего, остались только они с Алексеем. Он шел, тяжело ступая и глядя себе под ноги. На углу сидел нищий с кепкой на земле. Гурьянов остановился возле него и вывернул все свои карманы. Сложив все, что было в них, в кепку, он завернул за угол и исчез…
Подошел трамвай. Настя села на одиночное сиденье и нашла в тетрадке то место, о котором говорил Алексей. Собственно, оно само развернулось перед ней. Видимо, Гурьянов часто раскрывал тетрадь в этом месте. Странно, слева чернила выцвели совсем, а справа, похоже, еще и не просохли. И почерк другой…
«Как там Сережа?» – подумала Настя и углубилась в чтение.
***
«Николай Федорович, как всегда, был на своих «художествах». После работы он сразу шел на очередной «сеанс». Там рисовал, ужинал и прочее. Приходил часам к одиннадцати, а то и вовсе застревал до утра. Нина Васильевна давно привыкла к этому темпу жизни. Собственно, с третьего или четвертого месяца ее замужества. Поначалу, вроде, и хорошо все шло… Если бы не тот проклятый день, когда он уговорил ее сделать аборт! Рано, мол, нам еще детьми обзаводиться (как будто дети – обстановка!), давай-ка комнату сперва получим. Сделала, и комнату тут же в общежитии дали. Но в хоромах этих не звучать уже никогда детским голосам. Никогда… А ему и все равно. У него, видите ли, другие цели и задачи. Зачем замуж потянул тогда, женился бы на своем предначертании? Ни детей, ни семьи толком, и ее выжег всю. Ударился в живопись, а заодно и во все тяжкие. Впрочем, от его тяжких самой как-то легче стало. Не так совесть мучит и сердце болит. Идет и идет все само собой. Куда-то вдаль, где обещают всеобщее счастье. А он приходит, как в ночлежку. И то не каждый день. Хорошо, не бранится и не бьет. А то женской нашей доле и этого хорошо перепадает. Вот так раздастся однажды стук в дверь, зайдет, окинет пристальным художническим своим взглядом наше гнездышко, заберет чемодан и – поминай как звали! Кукуй и сопли размазывай.
Раздался стук в дверь. Нина Васильевна вздохнула и пошла отворять ворота ненаглядному.
На пороге стояла черноглазая молодая женщина с младенцем на руках. Глаза ее, как показалось Нине Васильевне, загорелись при виде убогости обстановки.
– Здравствуйте, – сказала она. – Николая Федоровича, значит, нет?
– Как видите.
– Мне он, собственно, и не нужен. Я кое-что занесла ему. Забыл.
– Давайте, я передам.
– Да, передайте, пожалуйста, – женщина вложила ребенка в руки остолбеневшей Нине Васильевне и вышла.
В дверях она столкнулась с Николаем Федоровичем. Тот отшатнулся, так решительно она шагнула прямо на него.
– Там передача вам, Николай Федорович.
Гурьянов взглянул на жену с младенцем в руках и побежал за черноокой.
– Анна! Анна! Да постой ты!
Слышны были удаляющиеся голоса. Николай Федорович в чем-то убеждал незнакомку, восклицавшую: «Нет! нет! нет!» Казалось, бархат кромсают тяжелым ножом. Через несколько минут Гурьянов вернулся. Взбешенный, но и подавленный. Нина Васильевна видела его таким впервые. Она все еще стояла столбом посреди комнаты.
– Ну что застыла? – бросил зло Гурьянов. – Эта, – он кивнул головой назад, – давно тут? Нагородила, небось, с три короба!
– Она даже и не зашла.
– Ребеночек сам прилетел? Дай-кось взглянуть на дитятко…
Гурьянов подошел к Нине Васильевне, приоткрыл личико ребенку.
– Девочка? – с неожиданной надеждой спросил он. – Хотя…
– Не там смотришь.
– Знаю, не маленький.
– Да уж вырос, поди!
– Ой, Нина! Ну что ты дуешься? Дуется, дуется, как мышь на крупу! И так тошно!
– Это же я тебе настроение испортила, – Нина Васильевна протянула ребенка Гурьянову. – Бери. Твой, чай.
– Чай-чай! Мой, чей же еще? Не твой же!
Нина Васильевна заплакала, упала на прибранную кровать и уткнулась лицом в подушку.
Гурьянов походил кругами, переводя взгляд с ребенка на вздрагивающую спину жены. Ребенок заплакал. Гурьянов растерянно глядел на живой сверток, который еще час назад не имел к нему никакого отношения.
– Нина, прости. Прости, ради бога! Не хотел я тебя обижать.
– Да не обижаюсь я, – всхлипнула Нина Васильевна. – Ни на кого я не обижаюсь. Долго будешь так стоять? Ребенок-то, наверное, мокрый? Так и есть. Мальчик, – почему-то обрадовалась она. – Лешенька.
– Что, Лешенька? – вздрогнул Гурьянов.
– Будет он у нас Алексеем, – категорически заявила Нина Васильевна и сама удивилась собственной решительности. Гурьянов удивленно глядел на жену. Ну и ну, женщины такой странный народ! – Алексеем Николаевичем! – для убедительности раза три произнесла Нина Васильевна. – Хорошо звучит. Великое будущее за ним! Зодчим будет или… архитектором!
Гурьянов присосался к чайнику и выпил, не отрываясь, не меньше литра воды.
– Ребенок теперь моя забота, – сказала Нина Васильевна. – А вы, папаша, оформите, не мешкая, полагающиеся документы на него.
– Как?
– А это уж я не знаю, как. Сумел одно, сумей и другое. Не хитра наука!
Нина Васильевна никак не предполагала в себе не то что материнских чувств к чужому ребенку, а даже маломальских чувств к розовому комочку мяса, ежеминутно требующего к себе любви и заботы. Муж ей был в эти дни омерзителен и гадок, а женщина, о которой она думать не хотела, но думала, – мамаша, бросившая сына с порога в чужие руки, – вообще ужасала ее.
Гурьянов все вечера проводил дома. Неужели отказался от «художеств»?
– Что, вдохновение покинуло? – хоть раз в день спрашивала она. Уж очень он допек ее годом супружества.
Гурьянов отмалчивался, но через пару недель, похоже, стал тяготиться воспитанием подрастающего поколения и, сначала робко, а потом решительнее прежнего, продолжил прервавшуюся так неожиданно творческую жизнь. Творческую натуру, увы, не переделать. Особенно, если это мужчина полный замыслов и вдохновения. Деньги, правда, от своих заработков он все приносил домой. А услады по части плоти и брюха потреблял, не делясь с женой, на всех своих живописных местах.
– Я так благодарен тебе, Нина! – говорил он в редкие минуты отдыха от напряженной творческой работы. – Ты так заботишься о нашем сыне!
Документы, впрочем, он оформил на Алексея Николаевича Гурьянова, не мешкая. Глядишь, правда, зодчим станет. Или «архитектором»!
Нет, у Инессы такой тонкий ум при всем таком прочем! Между прочим.
Чтоб культурней стать, чем Филдинг, занимайся бодибилдинг!»
***
«Это же почерк Алексея. Найденыш, – пронзило ее воспоминание, – Найденыш, между прочим. Я так и знала, я подозревала это!»
Мимо скользнула вывеска «Ломбард».
«Эх, мама! Эх, папа! Что же вы наделали с нами и сами с собой?! Как будто и не дети мы ваши, а вещи, которые