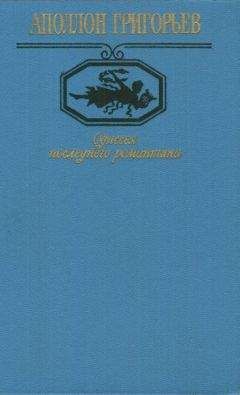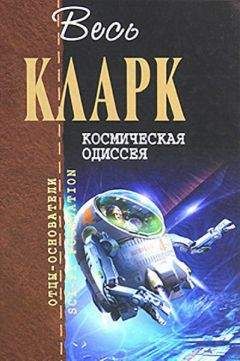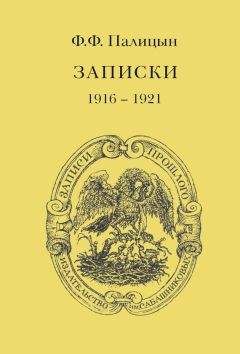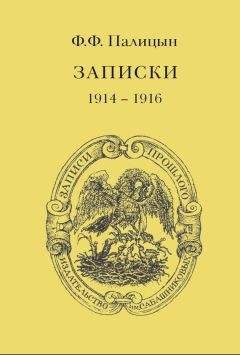и т. д. и т. д. —
мне казалось, вернее специфировали великорусса, чем «4 времени года» Григоровича и др. тому подобные вещи. Не отрицая явлений и такого рода, я говорю только, что не они характеристичны для нашего крестьянства, для великорусса, казачества, для мильонов раскольников наших, в высшей степени великорусских, особенно когда мы хотим сравнить их с благочестивыми и тяжелыми землепашцами Западной Европы.
Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия — но живущая в самых недрах народа. Итак, эти две черты: теплое отношение к печальным, но прекрасным идеалам 40-х годов и меньшая строгость по женскому вопросу влекли меня более ко «Времени», чем к московским славянам, — хотя я с каждым годом все более и более чтил их.
«Время» не выяснило определительно своей задачи, вы с этим должны согласиться; главная вина «Времени» против публики (а еще более против самого себя) была та, что оно не выработало в собственно гражданских отделах своих ничего своеобразного; если бы в гражданских отделах своих оно, по крайней мере, бы держалось явно славянофильского идеала, то дела пошли бы лучше… Но оно, кроме простой демократии, которая с большей силой и ясностью проповедовалась в «Современнике», ничего не давало… Но в этом виноваты были не вы, не Григорьев.
В других отделах «Время» было занимательно, но все-таки неясно для большинства.
Лучшие статьи принадлежали Вам и Григорьеву — но выводы их были все-таки не резки. Я говорю не о себе; я, мне казалось, понимал Вас и Григорьева и всю редакцию так:
В будущем мы желаем для России жизни полной и широкой, но своеобразной донельзя; перед этим своеобразием пусть побледнеет и покажется ничтожным наше полу-европейское недавнее прошедшее. Однако и к этому недавнему прошедшему мы не можем относиться без теплоты. И в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти общие элементы приняли бы более русские формы.
Так ли я понял Вас и Вашего друга? Если я ошибся, повторяю, поправьте меня.
Итак, взгляды «Времени» были мне по сердцу; но, не любя никаких литературных сближений, я не спешил знакомиться с Григорьевым.
Наконец, любовь моя к литературе взяла верх над моим отчуждением от литераторов, — и я, встретив раз Григорьева на Невском, попросил шедшего со мною одного его знакомого [г. Вс. Крестовского] представить меня ему.
Мы зашли в Пассаж и довольно долго разговаривали там. Насколько помнится, «Время» уже пало, и Григорьев издавал тогда «Якорь».
Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время, и не скрывал от него свое удовольствие.
Он отвечал мне:
— Моя мысль теперь вот какая: то, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни; но может быть неудобно — но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного…
— Если так, — сказал я, — то век Лудовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, стали бы вы это печатать?..
— Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь и печатать!
[Г. Вс. Крестовский может засвидетельствовать, если память ему не изменила в этом случае, истину моих слов.]
Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском.
Не помню, по какому поводу, шел на улице крестный ход. Григорьев был печален и молча глядел на толпу.
— Вы любите это? — спросил я, движимый сочувствием.
— Здесь, — отвечал Григорьев грустно, — не то, что в Москве!.. В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии.
— Вам самим, — прибавил я, — вовсе нейдет жить в этом плоском Петербурге; отчего вы бросили Москву?..
Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов…
Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто.
Я сначала думал, что он живет не один. Я знал еще прежде, что он женат, и раз на святой неделе спросил у него:
— Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую пасху?
— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать пасху так, как ее празднует хороший семьянин! — сказал Григорьев.
— Я думал — вы женаты, — заметил я.
— Вы спросите, как я женат! — воскликнул горько Аполлон.
Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни… Я вспомнил, как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем особо, по-своему; и понял, что избранный им смелый и странный путь породил, по несчастию, разрыв и нечто еще худшее разрыва… Так слышал я; но теперь я не позволю себе высказать все это яснее и подробнее.
Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. Вы сами, помните, не знали, где он. Я долго искал его; нашел, наконец, его бедный номер в огромном доме Фридерикса; но не застал его дома, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало.
Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не потому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подумают иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымирают прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.
Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованием и самобытностью. Лица даровитые и самобытные не могут быть без деятельности творчества; когда есть лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода. Ограничимся на этот раз только литературным поприщем в самом пространном значении этого слова; хотя и на других поприщах мы бы могли найти сходные явления и задать себе тот вопрос, который тревожит иногда сердце. Какими оригинальными дарованиями, каким русским творчеством заменят поколения 70-х годов, когда исчезнет богатое духом поколение 40-х годов? Когда-нибудь не станет ни Островского, ни И. Аксакова, ни Каткова, ни других современников Ап. Григорьева, как не стало ни Грановского, ни Кудрявцева, ни К. Аксакова, ни Хомякова, ни Станкевича, ни Кольцова, ни Шевченки, ни Белинского, как духовно не стало Тургенева после «Отцов и детей». «Дым» показал, что сам автор духовно стал ничтожен, как прах. Какие национальные «образования» заменят их? Многие из этих людей 40-х годов («отцы» тургеневские) доказали, что они способны быть не только мыслящими Рудиными, но и стать во главе практических учений, способны неусыпными трудами прокладывать свежие пути, являться в трудные минуты с духовной поддержкой колеблющемуся обществу. Кто заменит их? Здесь дело не в учении, а в личности. Пространственная даль, в которой я живу от России, почти то же, что историческая даль прошедшего. Каково бы ни было направление, лишь бы окончательная форма его была своя, наша и дышала бы силой!
Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру, когда даже и то, что недоставало тебе прежде, — политическое движение умом, — нынче тебе дано, и семена этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс? В безличность не эпическую, не в царство массы бытовой русской, а в безличность и царство массы европейской, петербургской, в безличность торгашескую, физико-химическую и чиновничью?
Аполлон Григорьев был и сам лицо, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было искание прекрасного в русской жизни и риском творчестве.
Ап. Григорьев хотел и старался дополнить во «Времени» и в «Якоре» то, что, по его мнению, недоставало строгим славянофилам (которых он высоко ценил) для всесторонней оценки русской жизни.
Пока все еще трепетало перед тем внезапным порождением прежнего либерализма, которое уже и запоздалому пониманию европейцев теперь известно под именем «нигилизма русских», — Григорьев продолжал служить прекрасному; не тому только прекрасному, что зовут «искусством» и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному самой жизни, прекрасному в мире современных движений, в мире политических учений, в мире борьбы. Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; но оттого, что сокол высиживает куриные яйца, сокол не перестанет быть смелой и ловкой птицей, и Григорьев уважал Добролюбова как лицо и деятеля. Но в то же время он решался защищать юродивых в «Якоре» и, основательно утверждая, что прекрасное в книге прекрасно и в жизни, указывал на задушевные изображения в наших повестях этих лиц, неподходящих под утилитарную классификацию.