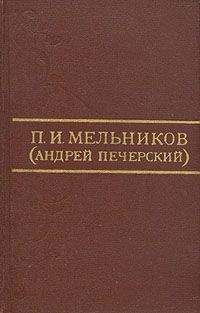На другой день по возвращении Манефы из Осиповки, нарядчик Патапа Максимыча, старик Пантелей, приехал в обитель с двумя возами усердных приношений. Сдавая припасы матери Таифе, Пантелей сказал ей, что у них в Осиповке творится что-то неладное.
— Пятнадцать лет, матушка, в доме живу, — говорил он, — кажется, все бы ихние порядки должен знать, а теперь ума не приложу, что у нас делается… После Крещенья нанял Патап Максимыч работника — токаря, деревни Поромовой, крестьянский сын. Парень молодой, взрачный такой из себя, Алексеем зовут… И как будто тут неспроста, матушка, ровно околдовал этот Алексей Патапа Максимыча: недели не прожил, а хозяин ему и токарни и красильни на весь отчет… Как покойник Савельич был, так он теперь: и обедает, и чай распивает с хозяевами, и при гостях больше все в горницах… Ровно сына родного возлюбил его Патап Максимыч. Право, нет ли уж тут какого наваждения?
— Слышала, Пантелеюшка, слышала. — ответила мать Таифа. — Фленушка вечор про то же болтала. Сказывает, однако ж, что этот Алексей умный такой и до всякого дела доточный.
— Про это что и говорить. — отвечал Пантелей — Парень — золото!.. Всем взял: и умен, и грамотей, и душа добрая… Сам я его полюбил. Вовсе не похож на других парней — худого слова аль пустошных речей от него не услышишь: годами молод, разумом стар… Только все же, сама посуди, возможно ль так приближать его? Парень холостой, а у Патапа Максимыча дочери.
— Правда твоя, правда, Пантелеюшка, — охая, подтвердила Таифа. — Молодым девицам с чужими мужчинами в одном доме жить не годится… Да не только жить, видаться-то почасту и то опасливое дело, потому человек не камень, а молодая кровь горяча… Поднеси свечу к сену, нешто не загорится?.. Так и это… Долго ль тут до греха? Недаром люди говорят: «Береги девку, что стеклянну посуду, грехом расшибешь — ввек не починишь». — Пускай до чего до худого дела не дойдет, — сказал на то Пантелей. — потому девицы они у нас разумные, до пустяков себя не доведут… Да ведь люди, матушка, кругом, народ же все непостоянный, зубоскал, только бы посудачить им да всякого пересудить… А к богатым завистливы. На глазах лебезят хозяину, а чуть за угол, и пошли его ругать да цыганить… Чего доброго, таких сплеток наплетут, таку славу распустят, что не приведи господи. Сама знаешь, каковы нынешни люди.
— Что и говорить, Пантелеюшка! — вздохнув, молвила Таифа. — Рассеял враг по людям злобу свою да неправду, гордость, зависть, человеконенавиденье! Ох-хо-хо-хо!
— Теперь у нас какое дело еще!.. Просто беда — все можем пропасть, — продолжал Пантелей. — Незнаемо какой человек с Дюковым с купцом наехал. Сказывает, от епископа наслан, а на мои глаза, ровно бы какой проходимец. Сидит с ними Патап Максимыч, с этим проходимцем, да с Дюковым, замкнувшись в подклете чуть не с утра до ночи… И такие у них дела, такие затеи, что подумать страшно… Не епископом, а бесом смущать на худые дела послан к нам тот проходимец… Теперь хозяин ровно другой стал — ходит один, про что-то сам с собой бормочет, зачнет по пальцам считать, ходит, ходит, да вдруг и станет на месте как вкопанный, постоит маленько, опять зашагает… Не к добру, не к добру, к самой последней погибели!.. Боюсь я, матушка, ох как боюсь!.. Сама посуди, живу в доме пятнадцать лет, приобык, я же безродный, ни за мной, ни передо мной никого, я их заместо своих почитаю, голову готов положить за хозяина… Ну да как беда-то стрясется?.. Ох ты, господи, господи, и подумать — так страшно.
— Что ж они затевают? — спросила Таифа.
— Затевают, матушка… ох затевают… А зачинщиком этот проходимец, — отвечал Пантелей.
— Что ж за дело такое у них, Пантелеюшка? — выпытывала у него Таифа.
— Кто их знает?.. Понять невозможно, — отвечал Пантелей. — Только сдается, что дело нехорошее. И Алексей этот тоже целые ночи толкует с этим проходимцем, прости господи. В одной боковушке с ним и живет.
— Да кто ж такой этот человек? Откуда?.. Из каких мeстов? — допытывалась мать Таифа.
— Родом будто из здешних. Так сказывается, — отвечал Пантелей. — Патапу Максимычу, слышь, сызмальства был знаем. А зовут его Яким Прохорыч, по прозванью Стуколов.
— Слыхала я про Стуколова Якима, слыхала смолоду, — молвила мать Таифа. — Только тот без вести пропал, годов двадцать тому, коли не больше.
— Пропадал, а теперь объявился, — молвил Пантелей. — Про странства свои намедни рассказывал мне, — где-то, где не бывал, каких земель не видывал, коли только не врет. Я, признаться, ему больше на лоб да на скулу гляжу. Думаю, не клал ли ему палач отметин на площади…
— Ну уж ты! Епископ, говоришь, прислал? — сказала Таифа. — Пошлет разве епископ каторжного?..
— Говорит, от епископа, — отвечал Пантелей, — а может, и врет.
— А если от епископа, — заметила Таифа, — так, может, толкуют они, как ему в наши места прибыть. Дело опасное, надо тайну держать.
— Коли б насчет этого, таиться от меня бы не стали, — сказал на то Пантелей. — Попа ли привезти, другое ли что — завсегда я справлю. Нет, матушка, тут другое что-нибудь… Опять же, если б насчет приезда епископа — стали бы разве от Аксиньи Захаровны таиться, а то ведь и от нее тайком… Опять же, матушка Манефа гостила у нас, с кем же бы и советоваться, как не с ней… Так нет, она всего только раз и видела этого Стуколова… Гости два дня гостили, а он все время в боковуше сидел… Нет, матушка, тут другое, совсем другое… Ох, боюсь я, чтоб он Патапа Максимыча на недоброе не навел!.. Оборони, царю небесный!
— Да что ж ты полагаешь? — сгорая любопытством, спрашивала Таифа. — Скажи, Пантелеюшка… Сколько лет меня знаешь?.. Без пути лишних слов болтать не охотница, всяка тайна у меня в груди, как огонь в кремне, скрыта. Опять же и сама я Патапа Максимыча, как родного, люблю, а уж дочек его, так и сказать не умею, как люблю, ровно бы мои дети были. — Да так-то оно так, — мялся Пантелей, — все же опасно мне… Разве вот что… Матушке Манефе сам я этого сказать не посмею, а так полагаю, что если б она хорошенько поговорила Патапу Максимычу, остерегла бы его да поначалила, может статься, он и послушался бы. — Навряд, Пантелеюшка! — ответила, качая головой, Таифа. — Не такого складу человек. Навряд послушает. Упрям ведь он, упорен, таких самонравов поискать. Не больно матушки-то слушает.
— Дело-то такое, что если матушка ему как следует выскажет, он, пожалуй, и послушается, — сказал Пантелей. — Дело-то ведь какое!.. К палачу в лапы можно угодить, матушка, в Сибирь пойти на каторгу!..
— Что ты, Пантелеюшка! — испугалась Таифа. — Ай, какие ты страсти сказал! На душегубство, что ли, советуют?
— Эк тебя куда хватило!.. — молвил Пантелей — За одно разве душегубство на каторгу-то идут? Мало ль перед богом да перед великим государем провинностей, за которы ссылают… Охо-хо-хо!.. Только вздумаешь, так сердце ровно кипятком обварит.
— Да сказывай все по ряду, Пантелеюшка, — приставала Таифа. — Коли такое дело, матушка и впрямь его разговорить может. Тоже сестра, кровному зла на пожелает… А поговорить учительно да усовестить человека в напасть грядущего, где другую сыскать супротив матушки?
Долго колебался Пантелей, но Таифа так его уговаривала, так его умасливала, что тот, наконец, поделился своей тайной.
— Только смотри, мать Таифа, — сказал наперед Пантелей, — опричь матушки Манефы словечко никому не моги проронить, потому, коли молва разнесется, беда… Ты мне наперед перед образом побожись.
— Божиться не стану, — ответила Таифа. — И мирским великий грех божиться, а иночеству паче того. А если изволишь, вот тебе по евангельской заповеди, — продолжала она, поднимая руку к иконам. — «Буди тебе: ей-ей». И, положив семипоклонный начал, взяла из киота медный крест и поцеловала. Потом, сев на лавку, обратилась к Пантелею:
— Говори же теперь, Пантелеюшка, заклята душа моя, запечатана…
— Дюкова купца знаешь? — спросил Пантелей. — Самсона Михайлыча? — Наслышана, а знать не довелось, — ответила Таифа. — Слыхала, что годов десять али больше тому судился он по государеву делу, в остроге сидел? — Может, и слыхала, верно сказать не могу.
— Судился он за мягкую денежку, — продолжал Пантелей. — Хоша Дюкова в том деле по суду выгородили, а люди толкуют, что он в самом деле тем займовался. Хоть сам, может, монеты и не ковал, а с монетчиками дружбу водил и работу ихнюю переводил… Про это все тебе скажут — кого ни спроси… Недаром каждый год раз по десяти в Москву ездит, хоть торговых дел у него там сроду не бывало, недаром и на Ветлугу частенько наезжает, хоть ни лесом, ни мочалой не промышляет, да и скрытный такой — все молчит, слова от него не добьешься.
— Так что же? — спросила Таифа.
— А то, что этот самый Дюков того проходимца к нам и завез, — отвечал Пантелей. — Дело было накануне именин Аксиньи Захаровны. Приехали нежданные, незванные — ровно с неба свалились. И все-то шепчутся, ото всех хоронятся. Добрые люди так разве делают?.. Коли нет на уме дурна, зачем людей таиться?