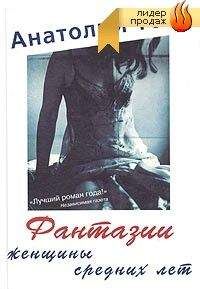– Пожалуйста, не произносите мое имя так громко. К тому же это давно уже не мое имя. Я теперь Огюст Силен.
Рицхе заговорил почти шепотом.
– Но вы же утонули. Об этом писали все газеты, полиция вела расследование, они два раза вызывали меня давать показания, и я рассказал о нашем разговоре, не все, конечно. Все считали, что вы бросились с моста.
– Это был не я.
– А кто же?
– Манекен, кукла. Я купил манекен, пробуравил дырки в ступнях, насыпал песок, одел в свою одежду и отнес ночью на мост. Я поставил его на самый край; пока в нем оставалось много песка, он сохранял устойчивость. Но песок потихоньку высыпался, знаете, Август, как песочные часы перетекают, и он становился легче, не сразу, впрочем, я успел уйти, и даже рассвело. Я все боялся, что по мосту пройдут люди, но мне повезло. Когда песка высыпалось достаточно, манекен потерял равновесие, наклонился и упал, совсем как человек, совсем как я. Я стоял на набережной и видел, да и не только я. Найти его было невозможно, в дырки набралась вода, он не мог всплыть, да и течение отнесло. Вот так. Видите, как все просто, проще, чем казалось.
Пока Огюст говорил, Рицхе приходил в себя. Лицо его, выражавшее поначалу недоверие, потихоньку стало разглаживаться, теперь он смотрел, как завороженный.
– Марк, это, как в сказке, – произнес он.
– Ну что, теперь коньяку? – спросил Огюст.
– Конечно. За тебя, за нас, за встречу, как же иначе. Они чокнулись и выпили.
– Меня так сильно тянуло зайти к тебе в галерею, пока ты не переехал в Париж, в новый особняк, – сказал Огюст, – но я боялся. Боялся приезжать в город, меня могли узнать, боялся открыться тебе.
Они оба не заметили, что перешли на «ты».
– Какое же все же чудо! – повторил Рицхе, – Я никак не приду в себя. Я по-прежнему не верю. Столько лет я прожил в уверенности, что тебя нет, я продавал твои картины, выступал, читал лекции о твоем стиле, написал о тебе множество статей, даже книгу…
– Я все читал, – вставил Огюст.
– И в результате – ты жив, все оказалось выдумкой, ха, сном. Как странно, даже не верится.
– Совсем не сон. Мы прожили каждый свою жизнь, определив и выбрав свой путь, оба постарели, оба стали богатыми, вошли в историю. Это и есть реальность, разница только в том, что для тебя Марк Штайм вдруг оказался жив, тогда как для меня Марк Штайм умер, погиб тогда, двадцать лет назад. А жив я, Огюст Силен. Вот и все.
– Я не понимаю, – Рицхе замотал головой. – Я давно не пил. Ну, Бог с ним, с прошлым, скажи, ты много писал? Ты выставлялся? Я никогда не видел твоих картин. Я бы сразу узнал руку, даже если бы ты изменил стиль.
– Я ни разу не выставлялся. – Огюст отглотнул из рюмки.
– Тогда у тебя должно накопиться множество работ за все эти годы. Сотни. Это же разорвавшаяся бомба. Новые работы Марка Штайма! Я даже не могу представить. Хватит ли у меня сил все это поднять? Конечно, у меня по-прежнему много связей, мы сможем…
– У меня всего одна картина, – прервал его Огюст.
– Всего одна, – удивился Рицхе. – Почему? Ты бросил живопись?
– Я написал всего одну картину, ту, которую начал писать сразу после нашего разговора.
– Которая тогда не получалась, ты еще жаловался. Вот видишь, я запомнил.
– Ты хочешь ее посмотреть? – спросил Огюст.
– Она с тобой?
– Да, я не расстаюсь с ней. Я смотрю на нее каждый день, это вошло в привычку, я не могу без нее. Я так долго ее писал, что привык. Но учти, ее никто не видел, даже жена, ты будешь первым. Ну что, пойдем?
– Конечно, конечно.
Рицхе заволновался, слишком торопливо поднялся, взялся за шляпу, но как-то неловко, и она упала. Пока он нагибался, Огюст допил свой коньяк.
– Ну, пошли, – повторил он и двинулся к выходу.
Они шли по набережной, порой раскланиваясь со встречными, один высокий, размашистый; он скорее отталкивался тростью, чем опирался на нее. В нем чувствовалась ухоженная солидность, даже значительность, но также и природное безразличие, так и неистребившееся за годы. Другой, пониже и пошире, почти не поспевал за ним, ему приходилось все время подстраивать шаг. Но даже спешка не могла скрыть в нем элегантности закоренелого щеголя.
– Я должен пояснить нечто прежде, чем ты увидишь картину, – сказал Огюст.
– Да, да. – Рицхе еще более оживился.
– Я не знаю, помнишь ли ты, Август, но однажды я сказал тебе, что писал свои лучшие картины, когда меня бросали женщины. Я часто влюблялся, я был влюбчивым, – Огюст усмехнулся, – и переживал и, чтобы забыться, бросался к мольберту. В эти моменты я видел свою боль настолько зримо, что если мне удавалось ее «ухватить» и перенести на холст, то картина превосходила мой дар и мое мастерство.
– Да, я помню. Я об этом писал в книге, ты ведь читал.
– Так получилось и с этой картиной.
– С тобой произошла любовная трагедия? Тебя бросила женщина? – Рицхе снова прибавил шаг, он хотел заглянуть Марку в лицо.
– Нет, не женщина, – ответил Огюст.
– А кто же?
– Посмотри сначала картину.
Они вошли в дом, в котором Силены снимали первый этаж, чистый, со вкусом обставленный, с хорошей мебелью. Огюст повел Рицхе в дальнюю комнату. Тяжелые шторы полностью прикрывали окна, пытаясь удержать рвущийся, играющий свет улицы, растворяя его в себе, превращая в пыльцу. Огюст зажег лампу из тяжелого свинцового стекла.
– Она не требует много света.
– Ты имеешь в виду картину? – Рицхе оглянулся, он ничего не видел.
– Она все равно съедает весь свет.
Огюст подошел к высокому стулу с наброшенной на спинку шалью и одним движением, слишком легким для своего грузного тела, сорвал ее. В глазах Рицхе все исчезло.
– Я никогда не видел такого. У меня кружится голова. У меня что-то с сердцем. Дай воды.
Он расстегнул верхнюю пуговицу жилета, а потом осел, он упал бы, если бы рядом не стоял стул.
Огюст подал ему бутылку с минеральной водой. Он переводил взгляд с Рицхе на картину, потом снова на Рицхе.
– Что ты чувствуешь? – спросил он, когда тот, тяжело дыша, наконец поймал дыхание.
– Она забирает из меня. Пьет меня. В картине не может быть такой силы. Я никогда не видел, так не бывает.
– Я так и думал, – сказал Огюст.
– Как ты можешь смотреть? – Подбородок Рицхе трясся, лицо побледнело, он держал руку на сердце, продолжая бормотать. – Закрой, пожалуйста закрой, – расслышал Огюст и занавесил картину.
Прошло несколько минут, и Рицхе отдышался, он уже сидел на диване в другой комнате, светлой, почти прозрачной, он никак не ног вспомнить, как попал сюда.
– Что со мной произошло? – спросил он. – Это все картина, что в ней? Она вбирает в себя. Как такое может быть? Я не понимаю.
– Я уже говорил тебе, что научился через картины избавляться от потерь. Я мог освободиться от женщины, от своей любви к нем. А здесь меня бросало творчество. Оно сочилось из меня, медленно, по каплям, истекало каждую секунду, час, день, особенно по ночам, каждый раз, когда я становился к мольберту. И оно все вышло, оно все в этой картине.
Помнишь, ты говорил, что балапса не существует? Так его действительно нет. Я просто не понял тогда. А та роковая форма, которая мучила меня и которая и есть теперь эта картина, она подсказывала, она последняя пыталась предостеречь. Что баланса нет! Что творчество не прощает! Это и было пророчество. Но я не понял, и, знаешь, каков результат?
Рицхе ничего не сказал, лишь вопросительно посмотрел.
– Марк Штамм умер тогда, упав с моста. А потом стало поздно.
– Все же это не совсем так. Ты создал ее. Лучшее, что когда-либо создавалось.
– Это потому, что ничего пе покидало меня с такой болью, как творчество, мой дар, мой талант – назови, как хочешь. Впрочем, говорят, что, когда человека оставляет жизнь, ему тоже невероятно больно. Никто, конечно, не знает, но я верю. Знаешь, как я ее назвал?
– Знаю, – сказал Рицхе. – Пустота.
– Пустота, – повторил Огюст, – которая только и может быть бесконечной. И только вбирать в себя. Хочешь выпить?
– Да, пожалуй. Можно будет еще раз взглянуть, потом, после?
– Ты так можешь привыкнуть. Я тоже привык.
– Да, да. Ты не нальешь еще коньяка?
Утро проснулось раньше меня, но ненамного, я его скоро нагнала. Я еще лежу, но уже понимаю, что от непогоды не осталось и следа. А вчера казалось, что печальный, мелко моросящий дождь останется навсегда. Так казалось, но вот, утро, и о дожде забыто, и властвует солнце, оно не тиранит, а управляет мудро, терпеливо.
«Пора вставать», – говорю я себе, я и так скомкала весь вчерашний день. Теперь пора нагонять упущенное, все оставить на потом: чай, завтрак, даже душ – сейчас умыться и в лес, именно с леса необходимо начать это утро. Я все же забегаю на кухню отхлебнуть вчерашнего недопитого чая, кружка с вечера стоит на столе, и чай в ней почерневшии, с синеватой поволокой, как и полагается всему старому, сморщенному. А затем я ныряю за дверь, она податливо распахивается, и я зажмуриваюсь, я за вчерашний день отвыкла от яркого света.