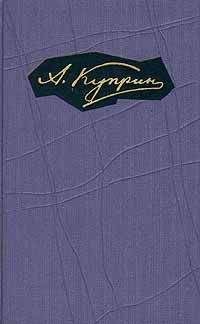Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу остзейца.
— На-ка-сь, выкуси.
— Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек, — торговался Бринкен, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой.
— Проваливай!
— И три десятка пуговиц. Все накладные и из них четырнадцать гербовых.
— А ну тебя к черту, перец. Отвяжись.
— И шесть булок.
— Пошел к черту…
— Утренних булок. Ведь не вечерних, а утренних.
— Полезь еще, пока я тебе в морду не дал! — вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. — Брысь, колбасник!.. Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтиной отдаю, так и быть…
Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой.
— Ну, последнее слово, ребята, — два целковых! — крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им. — Самому дороже… Ну — раз! два!
В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина.
— А-а! Буланка! — кивнул ему головой Грузов. — Покупай фонарь, Буланушка.
Буланин смутился.
— Я бы с радостью… только…
— Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?
— Да.
— Вот и возьми у родных. Эки деньги — два рубля! Небось, два-то рубля тебе дадут? А? Дадут два рубля, Буланка?
Буланин и сам не мог бы сказать: дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст… Вывернусь как-нибудь», — успокаивал он последние сомнения.
— Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только…
— Ну вот и покупай, и прекрасно, — сунул ему Грузов в руки ящик. — Твой фонарь — владей, Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да уж очень ты мне, Буланка, понравился. А вы, братцы, — обратился он к новичкам, — вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чур, мена без размена… Слышите? Ты, гляди, не вздумай надуть, — нагнулся он внушительно к Буланину. — Отдашь деньги-то?
— Ну вот. Конечно, отдам.
— Забожись.
— Вот ей-богу, отдам, честное слово…
— Ладно… А то у нас знаешь как.
И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой.
Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки.
— А ну-ка, покажи фонарь, Буланка. Чего же ты его прячешь? Буланушка, дай посмотреть.
Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то Завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась: она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости, — в руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее.
— Ты смотри, Буланка, — посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке, — смотри, деньги-то непременно принеси.
— Конечно, конечно, принесу.
— Смотри же… а то…
— А то что? — спросил шепотом Буланин, и его сердце сжалось от неясного предчувствия.
— Бить будет, — сказал Сельский также шепотом. — Ты его не знаешь… Он отчаянный. Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь.
— Нет, нет… зачем же? Я отдам… Что ж… — залепетал Буланин упавшим голосом.
После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке.
«И зачем мне было покупать этот фонарь? — думал он с бесполезной досадой. — Ну, пересмотрю я все картинки, а дальше что же? Во второй раз даже и неинтересно будет. Да и даст ли мама два рубля? Два рубля! Целых два рубля! А вдруг она рассердится, да и скажет: знать ничего не знаю, разделывайся сам, как хочешь. Эх, дернуло же меня сунуться!»
Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой, гимназический священник, а из посторонней церкви, по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил, маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая-угодника, человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором за провинившихся почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминание.
Пещерский, собственно, даже и не был священником, а только дьяконом, но его все равно величали «батюшкой». Это был гигант, весь ушедший в гриву черных волос и в густую, огромную бородищу, причем капризная судьба, точно на смех, дала ему вместо крепкого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дискант. Вокруг его темных глаз — больших, красивых, влажных и бессмысленных — всегда лежали масленистые коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок не то елейности, не то разврата. Про силу Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, ниспосылаемых небом человеку, он прибавлял: «Внимайте, юноши, с усердием слову божию, и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах, Пещерский вытаскивал из кармана медный пятак и тут же, на глазах изумленной аудитории, свертывал его в трубочку.
Но чем уж действительно его господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, с бесконечным «гм…» и «эге…», с повторениями одного и того же слова. Под его монотонное пиликанье невольно слипались глаза и голова сама собой опускалась на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, ниспосылаемых небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он «за всякую малость» записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за «кощунство, свиноподобие и строптивость». Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах, строптивость — в незнании урока, а кощунство — в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского «Козлом», — кто именно, осталось неизвестным.
На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя.
«А что будет, если мама не даст двух рублей? Тогда уже, наверное, одними маслянками не отделаешься, — размышлял Буланин. — Да, наконец, как я решусь сказать ей о своей покупке? Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии не хватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета Сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря».
Но вдруг, точно искра, блеснуло в голове Буланина тревожное опасение, и даже сердце у него заекало от испуга… А что, если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинки или погнули что-нибудь? Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет…
Он поспешно, дрожащими руками, поднял крышку своего столика и, поддерживая его головой, стал осматривать фонарь.
Нет, все в порядке… Трубка немного расходится по спаю, но это так и было… все слышали, на все отделение можно сослаться… И картинки все в целости — двенадцать штук… Вот еще лампочку надо осмотреть.
— Что это вы там у себя в столике делаете? — вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского.
Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распуская ее веером.
— Я… я… ничего… Я ничего не делаю… право, ничего, — залепетал Буланин.
— Что у вас там?.. Покажите, — сказал Козел, делая внезапно строгие и мутные глаза и кивком головы указывая на парту.
— Право же, ничего, батюшка! Ей-богу, ничего… Я просто… я книжку искал.
Бормоча эти несвязные слова, Буланин крепко держался за края крышки, но Козел с настойчивым, хотя и мягким усилием потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь.
— Так это вы говорите — ничего? А еще божитесь! Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и подавно… Я вам здесь слово божие объясняю, а вы в игрушечки играетесь. Нехорошо. Очень нехорошо… Очень, очень нехорошо.
— Батюшка, позвольте… отдайте… Батюшка, Я никогда не буду больше… Отдайте, пожалуйста, — взмолился Буланин.
— Сын мой, — произнес Козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, и его влажные глаза опять стали кроткими, — сын мой, я с удовольствием отдал бы вам вашу… вашу штучку… она мне ни на что не нужна, но… — на этом «но» Козел повысил голос и прижал ладони к груди, — но, подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от лиц, коим непосредственно вверено ваше воспитание? Нет! — Он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. — Я не могу принять этого на свою совесть, положительно не могу… нет, нет, и не просите… не могу-с…