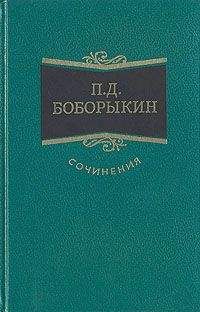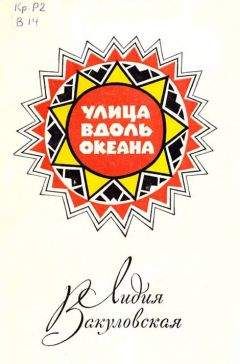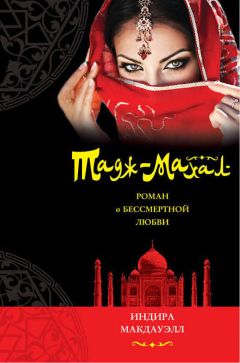— Пойду раскланяться… очень рад повидать Катерину Петровну… А вы еще погуляете?
— Да, еще немножко, — ответила Тася и поглядела на Пирожкова.
В ее взгляде было: "Вы не думайте, что я стыжусь своего жениха, я очень счастлива".
"И славу Богу", — подумал Иван Алексеевич, приподнимая шляпу.
Он чувствовал все приливающее раздражение.
Старушки сидели одни на скамейке.
Катерина Петровна держалась еще прямо, в старушечьей кацавейке и в шляпе с длинным вуалем. На Фифине было светлое пальто, служившее ей уже больше пяти лет.
Иван Алексеевич подошел к руке Катерины Петровны. Она усадила его рядом.
— Видел сейчас вашу внучку, — заговорил он, — и поздравил ее…
— Ах, вы знаете, милый мой… И слава Богу!
Катерина Петровна оглянулась на обе стороны и продолжала:
— Такое время, mon cher monsieur, такое время. La noblesse s'en va…[168] Посмотрите вот, какие туалеты… все ведь это купчихи… Куда бы она делась?.. А он — директор фабрики. Немного мужиковат, но умный… В Америке был… Что делать… Нам надо потише.
Она понизила голос. Фифина приниженно улыбалась.
— С нами почтителен, — добавила Катерина Петровна.
"И кормить вас будет", — подумал Пирожков.
Он бы с охотой посидел еще. Старушка всегда ему нравилась. Но Ивана Алексеевича защемило дворянское чувство. Он должен был сознаться в этом. Ему стало тяжело за Катерину Петровну: Засекина — и на хлебах у купчика, жениха ее внучки!..
Посмотрел он через бульвар, и взгляд его уперся в богатые хоромы с башней, с галереей, настоящий замок. И это — купеческий дом! А дальше и еще, и еще… Начал он стыдить себя: из-за чего же ему-то убиваться, что его сословие беднеет и глохнет? Он — любитель наук, мыслящий человек, свободен от всяких предрассудков, демократ…
А на сердце все щемило да щемило.
— У нас не побываете? — спросила его глупенькая Фифина.
— Где же, mon ange… оне заняты, — сказала Катерина Петровна.
"Оне! — чуть не с ужасом повторил про себя Пирожков. — Точно мещанка или купчиха… Бедность-то что значит".
Ему положительно не сиделось. Он простился с старушками и скорыми шажками пошел к выходу в сторону храма Спасителя. По обеим сторонам бульвара проносились коляски. Одна коляска заставила его поглядеть вслед… Показалась ему знакомой фигура мужчины. Цветное перо на шляпе дамы мелькнуло красной полосой.
"Точно Палтусов", — подумал он и перестал глядеть по сторонам.
— Вот и опять встретились, — остановил его голос Таси.
Пришлось еще раз остановиться.
— Как нашли бабушку?.. — спросила Тася.
— Бодра.
— Старушки у нас будут жить, — сказала с ударением Тася и поглядела на Пирожкова.
Этот взгляд значил: "Ты не думай, мой будущий муж все сделает, что я желаю".
— А генерал как поживает? — спросил Пирожков.
— Он — при месте… Жалуется… Можно будет его иначе пристроить.
"На купеческие хлеба", — прибавил мысленно Пирожков.
В эту минуту прогремела коляска. Они стояли почти у перил бульвара и разом обернулись.
— Анна Серафимовна! — вскрикнула Тася. — С кем это?
— Да это Палтусов! — вскрикнул и Пирожков.
— Ваш приятель-с? — спросил его с улыбкой Рубцов.
— Да-с, — ответил ему в тон Иван Алексеевич.
— Стало, его выпустили! — искренне воскликнула Тася. — Ну вот видите, — обратилась она к Рубцову. — Разумеется, он не виновен!
Тот только выпустил воздух под нос, скосив губу.
— Третьего дня он еще сидел, — сказал Пирожков, — но для него это не сюрприз… Все доказывал, что статья тысяча семьсот одиннадцатая к нему не применима.
— Какая-с? — полюбопытствовал Рубцов.
— Тысяча семьсот одиннадцатая, — повторил Пирожков и раскланялся.
— Все устроится!.. — крикнула ему вслед Тася.
"Все устроится, — думал Иван Алексеевич. — И Палтусов на свободе катается с купчихой: она его и спасет, и женит на себе… Теперь он, Пирожков, никому не нужен… Пора в деревню — скопить деньжонок — и надолго-надолго за границу… работать".
Вдруг у него заныло под ложечкой. Он опять голоден… И вспомнил он сейчас же, что сегодня надо ехать в "Московский".
Против Воскресенских ворот справлялось торжество — «Московский» трактир праздновал открытие своей новой залы. На том месте, где еще три года назад доживало свой век "заведение Гурина" — длинное замшаренное двухэтажное здание, где неподалеку процветала "Печкинская кофейная", повитая воспоминаниями о Мочалове и Щепкине, — половые-общники, составивши компанию, заняли четырехэтажную громадину.
Эта глыба кирпича, еще не получившая штукатурки, высилась пестрой стеной, тяжелая, лишенная стиля, построенная для еды и попоек, бесконечного питья чаю, трескотни органа и для «нумерных» помещений с кроватями, занимающих верхний этаж. Над третьим этажом левой половины дома блестела синяя вывеска с аршинными буквами: "Ресторан".
Вот его-то и открывали. Залы — в два света, под белый мрамор, с темно-красными диванами. Уже отслужили молебен. Половые и мальчишки в туго выглаженных рубашках с малиновыми кушаками празднично суетились и справляли торжество открытия. На столах лежали только что отпечатанные карточки «горячих» и разных «новостей» — с огромными ценами. Из залы ряд комнат ведет от большой машины к другой — поменьше. Длинный коридор с кабинетами заканчивался отделением под свадьбы и вечеринки, с нишей для музыкантов. Чугунная лестница, устланная коврами, поднимается наверх в «нумера», ожидавшие уже своей особой публики. Вешалки обширной швейцарской — со служителями в сибирках и высоких сапогах — покрывались верхним платьем. Стоящий при входе малый то и дело дергал за ручки. Шел все больше купец. А потом стали подъезжать и господа… У всех лица сияли… Справлялось чисто московское торжество.
Площадь перед Воскресенскими воротами полна была дребезжания дрожек. Извозчики-лихачи выстроились в ряд, поближе к рельсам железно-конной дороги. Вагоны ползли вверх и вниз, грузно останавливаясь перед станцией, издали похожей на большой птичник. Из-за нее выставляется желтое здание старых присутственных мест, скучное и плотно сколоченное, навевающее память о «яме» и первобытных приказных. Лавчонки около Иверской идут в гору. Сноп зажженных свечей выделяется на солнечном свете в глубине часовни. На паперти в два ряда выстроились монахини с книжками. Поднимаются и опускаются головы отвешивающих земные поклоны. Томительно тащатся пролетки вверх под ворота. Две остроконечные башни с гербами пускают яркую ноту в этот хор впечатлений глаза, уха и обоняния. Минареты и крыши Исторического музея дают ощущение настоящего Востока. Справа решетка Александровского сада и стена Кремля с целой вереницей желтых, светло-бирюзовых, персиковых стен. А там, правее, огромный золотой шишак храма Спасителя. И пыль, пыль гуляет во всех направлениях, играя в солнечных лучах.
Куда ни взглянешь, везде воздвигнуты хоромины для необъятного чрева всех «хозяев», приказчиков, артельщиков, молодцов. Сплошная стена, идущая до угла Театральной площади, — вся в трактирах… Рядом с громадиной «Московского» — "Большой Патрикеевский". А подальше, на перекрестке Тверской и Охотного ряда, — опять каменная многоэтажная глыба, недавно отстроенная: "Большой новомосковский трактир". А в Охотном — свой, благочестивый трактир, где в общей зале не курят. И тут же внизу Охотный ряд развернул линию своих вонючих лавок и погребов. Мясники и рыбники в запачканных фартуках молятся на свою заступницу «Прасковею-Пятницу»: красное пятно церкви мечется издали в глаза, с светло-синими пятью главами.
Гости все прибывают в новооткрытую залу. Селянки, расстегаи, ботвиньи чередуются на столах. Все блестит и ликует. Желудок растягивается… Все вместит в себя этот луженый котел: и русскую и французскую еду, и ерофеич и шато-икем.
Машина загрохотала с каким-то остервенением. Захлебывается трактирный люд. Колокола зазвенели поверх разговоров, ходьбы, смеха, возгласов, сквернословия, поверх дыма папирос и чада котлет с горошком. Оглушительно трещит машина победный хор:
"Славься, славься, святая Русь!"
Впервые напечатано: Вестник Европы, 1882, № 1–5. Публикуется по изданию: Боборыкин П.Д. Китай-город. Роман в пяти книгах. Примечания Н. Ашукина. М., Московский рабочий, 1960.
"…Моя беллетристическая вещь такого рода, что служит как бы художественным преддверием к "познанию Старой столицы", — сообщал П. Д. Боборыкин в письме редактору "Вестника Европы" А. Н. Пыпину от 31 декабря 1880 года,[169] и уже по этому, первому из дошедших до нас свидетельств о работе над «Китай-городом» можно судить о том, какой смысл вкладывал писатель в свое произведение.