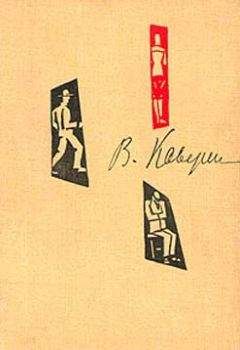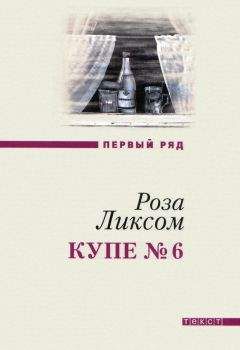"Лагерями" называлось небольшое пространство между крепостной стеною и обводным каналом Невы, когда-то служившее для лагерного расположения частей гарнизона, а теперь превратившееся в место для свалки мусора.
Не было возможности выбрать иную позицию - ни втащить орудия вверх на крепостные стены, ни оставить их за стенами. Слишком близка была цель Зимний можно было расстреливать только прямой наводкой.
С наступлением темноты эти орудия были выдвинуты из-за куч мусора на заранее выбранные места у самого берега Невы.
Снаряды частью нашлись в арсеналах, частью были присланы с Выборгской стороны из склада огнеприпасов, - все было готово к тому, чтобы в условленный час начать бомбардировку Зимнего, подавая тем самым знак к всеобщему штурму - и теперь, когда этот условленный час пришел, когда через четыре минуты Военно-Революционный Комитет прикажет открыть огонь, теперь...
- Товарищ Павлов, я иду к орудиям. Вы замените меня до моего возвращения.
Тусклые блики фонарей дрожат в темной зыби Невы; октябрьский вечер легким дыханьем дождя оседает на лицо и руки.
Через Троицкий мост с резким звоном тянутся игрушечные трамваи, лепятся к перилам кукольные фигурки прохожих.
Комиссар выбрался, наконец, за крепостную стену.
Среди огромных куч мусора, в свете ручного фонаря казавшихся безобразной декорацией - стояли орудия.
В десяти шагах от них несколько артиллеристов жались к стволам огромных оголенных ветел. Один из них вышел вперед:
- Товарищ комиссар?..
Ручной фонарь направляется навстречу артиллеристу и свет его на одно мгновенье задерживается на офицерских погонах.
- В чем дело, поручик? Почему артиллеристы отказываются стрелять?
- Артиллеристы не отказываются стрелять...
Поручик держит голову прямо и смотрит в лицо Лобачева немигающими глазами.
- Артиллеристы не отказываются стрелять, в случае если им будут предоставлены исправные орудия. Эти орудия - неисправны. При первом выстреле их разорвет. Они - проржавели, в компрессорах нет ни капли масла.
Комиссар внезапным движением наводит свой фонарь прямо в лицо офицера.
Сухое, гладко выбритое лицо спокойно, брови слегка приподняты, глаза смотрят не мигая, только зрачки сузились под ярким светом; да и что там рассмотришь в этих пустых глазах, спасает ли этот вылощенный человек свою шкуру, надеется ли на то, что эти сумасшедшие большевики проиграют игру? И уж во всяком случае не узнать, ни за что не узнать, по этим глазам, есть ли в самом деле в компрессорах масло и проржавели ли в самом деле орудия, первые орудия революции, которыми во что бы то ни стало нужно подать условный знак к атаке, которыми во что бы то ни стало нужно сломить сопротивление "армии, верной Временному правительству"?
- Я вам не верю.
Поручик пожимает плечами.
- Как вам угодно! Впрочем вы в этом можете удостовериться сами!
- Вызовите сюда фейерверкера.
Фейерверкер, неуклюжий, широкий солдат в темноте возится возле орудий; его зовут; переваливаясь на коротких ногах он идет к комиссару.
- Какие неисправности в орудиях?
Фейерверкер молчит.
- Какие неисправности в орудиях?
- Из их давно не стреляно, - говорит, нахмурившись, фейерверкер. Заржавели. И в компрессорах...
- Что?
- В компрессорах - пусто. Масла нет.
Комиссар молчит; немного погодя, он подходит к артиллеристам ближе и говорит глухо:
- Сейчас я пришлю своего помощника для обследования орудий. В случае, если они окажутся исправными...
Он замолчал на одно мгновенье:
- Расстреляю!
Он повернулся и быстро пошел обратно.
У самой крепостной стены его догнал поручик, начальник крепостной роты.
- Простите, товарищ комиссар...
Лобачев, не замедляя шага, повернул к нему голову.
- Вы, может-быть, думаете, что я солгал... Даю вам честное слово офицера, что...
Он едва поспевал за комиссаром.
- Что стрелять из этих орудий, в самом деле, крайне опасно!
--------------
Снова тусклые блики фонарей дрожат в темной зыби Невы, снова ветер, дождь и сумрачные громады зданий.
Навстречу ему, размахивая рукой, в которой зажата записка, бежит какой-то солдат.
- Товарищ комиссар!
- В чем дело?
- Вас ждут... Вот записка.
При четком свете фонаря Лобачев читает записку и стиснув челюсти рвет ее на мелкие клочки.
- Опять приказ... Но, чорт побери, ведь можно же начать бомбардировку с "Авроры"!
- Где Павлов?
- В дежурной комнате, товарищ комиссар!
Лобачев бежит по лестнице, распахивает дверь в дежурную комнату и лицом к лицу сталкивается с человеком невысокого роста, в очках в распахнутом пальто и мягкой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок.
- В чем дело, чорт возьми? Почему не открываете огонь. Из Смольного приказ за приказом, войска ждут, а вы...
Лобачев, крепко сжимая челюсти, смотрит на человека в очках.
Тот внезапно умолкает, сдвинув брови и тревожно вглядываясь в лицо комиссара.
- Вы больны? Если вы больны, так как же вы смеете браться за такое дело...
Лобачев разжимает залитый свинцом рот.
- Я здоров. Не имею возможности открыть огонь, так как орудия, по словам артиллеристов, неисправны и стрельба из них сопряжена с опасностью для жизни.
- Ваши артиллеристы - изменники! - кричит человек в очках. - Немедленно дайте знак из сигнальной пушки.
- Сигнальная пушка? - вспыхивает в мозгу комиссара. - В самом деле, как же так?.. Сигнальная пушка...
- Почему вы не вызвали артиллеристов с Морского полигона?
- Почему я не вызвал артиллеристов с Морского полигона? - бессмысленно повторяет комиссар и, придя в себя, отвечает:
- Потому что четверть часа тому назад я еще не знал, что орудия неисправны.
Человек в очках хватает его за руку и тащит к дверям.
- Идемте к орудиям!
Он уже бежит по лестнице, выбегает на двор, дождь сразу захлестывает лицо; он поднимает воротник пальто, глубже надвигает шляпу. Комиссар едва поспевает за ним. Они идут в темных проулках, между гарнизонными зданиями; со стороны Зимнего слышатся редкие ружейные выстрелы, фонари слабо мерцают у крепостных стен.
- Товарищ Лобачев, где вы?
Какой-то человек бежит за ними, проваливаясь в лужи, прыгая через выбоины.
- Я здесь. Что случилось?
Человек падает в лужу, вскакивает, ругаясь по-матери, и кричит весело:
- Зимний сдался и наши там!
Человек в очках с недоумением опускает голову и смотрит поверх очков.
- Зимний сдался? Навряд...
Комиссар, дрожа от напряжения, хватает его за руку.
Он отвечает на пожатие и, прислушиваясь к учащающейся стрельбе, говорит с сомнением, качая головой.
- Что-то не то... Однако ж едем туда... Посмотрим...
Они возвращаются обратно в дежурную комнату.
Высокий солдат, лицо его кажется знакомым комиссару, подходит к нему, едва только он появляется на пороге дежурной комнаты.
- Товарищ комиссар, - говорит он и, по старой военной привычке, подносит руку к козырьку фуражки - поручение выполнено.
- Какое поручение? - пытается вспомнить комиссар. - Ах да, это тот самокатчик... Я его посылал с ультиматумом в Зимний.
- Очень хорошо, товарищ, - отвечает он.
- Временное правительство отказалось ответить на ультиматум...
- Временного правительства больше не существует. Зимний взят.
- Вы давно с Дворцовой площади? - спрашивает самокатчика человек в очках.
- Не более, как минут тридцать...
- Ну как там?
- Да вот впервые от товарища Лобачева слышу, что Зимний сдался.
Человек в очках быстро идет к дверям и еще раз оборачивается на пороге.
- Я еду. На всякий случай необходимо немедленно послать за артиллеристами с Морского полигона.
На мостике, за крепостными воротами уже тарахтит автомобиль со слюдяными окошечками в парусиновом верхе.
5.
Кривенко вернулся из штаба мрачный и почти не отвечал на расспросы красногвардейцев.
Он хмуро выслушал сообщение своего помощника о том, что за время его отсутствия заставой Павловского полка были задержаны на Морской 150 юнкеров с четырьмя орудиями, за какие-то пустяки обругал его по-матери и принялся осматривать испорченный пулемет, с которым возился еще утром.
Раза два он пробормотал что-то про себя, но Шахов, вернувшийся с обхода расслышал только:
- Все дело губят... Засранцы! Что ж, подождем.
Шахов хотел было узнать от него о причинах замедления, но раздумал и отошел в сторону.
Недавнее ощущение необычайной новизны всего мира и странность того, что вещи и люди представлялись ему во всех мелочах с особенной свежестью и убедительностью - все это было сметено встречей с Главецким.
Это лицо, немного опухшее, тошнотное, но вместе с тем чем-то привлекательное выплывало перед ним за каждым углом. За три часа, которые он провел, бродя между Морской и Миллионной, оно не оставляло его ни на одну минуту. Он до мелочей припоминал давешний разговор в трактире и вместе с тяжелым чувством огромной и страшной для него (в этом он был почти уверен) неудачи, испытывал горечь от того, что встреча с Главецким произошла в этот, а не в другой день.