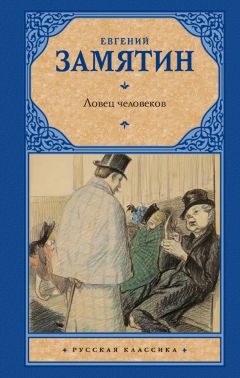И верно: как газеты почитать – с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут – как псы с цепи сорвались, прости Господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились?
Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой, да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят, печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в брюках, на вате стеганных, – не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатко ни валко, преют, как навозец, в тепле. Да оно и лучше: ребят-то, гляди, каких бутузов выхаживают.
Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов – с газетой сидит.
– Вот, министра-то ухлопали, слыхали или нет?
Тимоша улыбается – лампадку веселую зажег:
– Слыхали, как не слыхать. Идем это по базару, слышу, разговаривают: «Очень его даже жалко: поди, ведь тысяч двадцать в год получал. Очень жалко».
Моргунов так и затрясся от смеху:
– Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать… очень жалко… Ох уморил!
Помолчали, газетами пошуршали.
– А у нас – тоже Анютку Протопопову в Питере забрали, доучилась, – вспомнил Барыба.
Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать – знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в серьезном деле – все одно, что мармелад во щи мешать.
– В гости бабу еще – туда-сюда, пустить можно. А в себя уж – ни-ни. – Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. – В себя пустил – пропал. Баба – она, брат, корни – вроде лопуха пускает. И не вынесть никак. Так лопухом весь и зарастешь.
– Лопухом, – смеется, громыхает Барыба. А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:
– Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!
«И чего ломается, чего орет», – думал Барыба.
Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза – не то охальные, не то мученские.
– Пива нам, пива, пива! – орал Семен Семеныч. Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая – ну вот сейчас после дождя травка.
– Новая? – говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.
Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Моргунов:
– Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.
За пивом, глядишь, Тимоша, завел уж о своем любимом, о Боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить – так где же любовь? И как же это праведники в раю останутся? И куда же Бог денет этих убийц министровых?
Моргунов – не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от ладана.
– Не смей мне о Боге, не смей о Боге.
И говорит тихонько как-то, а жуть – слушать.
Тимоша доволен, смеется.
Постом Великим все злющие ходят, кусаются – с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха – и все подобреют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подобреют: нищему вместо копейки – две подадут; кухарке на кухню – пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил – не выпорют для праздника.
Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Насбирал Чернобыльников – и повел в чуриловский трактир приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.
Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает – а хорохорится, бодрится туда же.
– Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу, – крушился Чернобыльников. – Гляди, какой стал.
– Чего лечиться-то? Все одно – помру. Да оно, по мне, и любопытно – помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут – в неведомые страны, спутешествовать, по бесплатному билету. Чать, лестно.
Знай себе посмеивается Тимоша.
– Ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе.
Нет, хоть ты что. Пьет, не отстает, по старому своему обычаю – пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел – веретье целое.
– А это, – говорит, – чтобы в благородном месте на пол не харкать.
Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.
– Эй, Митька, получи! – крикнул Чернобыльников.
Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать.
– Эх, люблю я пасхальную вечерню, – зажмурил глаза Тимоша. – Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обчеством, а?
Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:
– А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, – чудак такой.
Казначейский зять вынул часы:
– Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.
– Ох, вот ушиб-то: не принято! – Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком: нету. – Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю.
Взмахнул ручками, вспорхнул, – воробейчик.
Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.
– Погоди-ка, орут наверху… чего там такое? – навострил Барыба большие свои нетопырячьи уши.
Казначейский зять скорчил мину.
– Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в обчественном месте.
Дз-зынь! – высадили вверху стекло, осколки со звоном – вниз. И сразу затихло.
– Ого, – прислушался Чернобыльников, – нет, тут что-то…
И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.
– Там они… вверху… приказали. И все… подняли руки и стоят.
Тр-рак, тр-рак! – затрещало вверху.
Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стреля-яют! И пустился наутек.
А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.
– И-и-и! Держи-и…
И опять: тр-рак, тр-рак.
На секунду: в дверях впереди всех – красное безглазое лицо.
«Должно быть, это со страху он закрыл глаза», – мелькнула мысль.
А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные – дикие, распоясанные, гончие.
– Держи-и его! Не пуща-ай! BО-ВОТ-ВОТ он!
Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накинулись, притиснули, колотили – и все-таки ревели: держи-и, – так уж просто, нужно было вылиться через глотку.
Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать, как все, колотить, кого все.
На земле, в кругу, лежал мальчишечка – чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее – черная родинка.
Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная, борода тут вся у него склочена, рот перекошен – куда вся богомольность девалась.
– Унесли! А, дьяволы! Убег один, со ста рублям убег! А, дьяволы?
И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.
Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, – вскочил, красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками.
– Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальца-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?
Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился:
– Ты что, заодно с ними? Заступник? Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слыхали. Держите его, православные!
Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были не нашенские. Так это, зря, наверно, старик…
Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадий, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.
Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:
– Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.
И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его, как тушу.
* * *
Куда уж там в монастырь идти – до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:
– Иду я, значит, по Дворянской… Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».