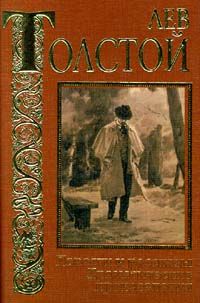После Вольты придумали еще усилить электричество тем, что промеж металлов стали наливать разные жидкости – воду и кислоты. От этих жидкостей электричество стало еще сильнее, так что уж не нужно, как прежде делали, тереть, чтобы было электричество; а стоит только положить в одну чашку кусков разного металла и налить жидкостей, и в этой чашке будет электричество, и будет выходить искра из проволоки.
Когда придумано было это электричество, стали его прилагать к делу: придумали золотить и серебрить электричеством, придумали свет электрический и придумали электричеством на дальнем расстоянии с места на место передавать знаки.
Для этого кладут куски разных металлов в стаканчики; в них наливают жидкости. В стаканчиках набирается электричество, и это электричество проводят по проволоке в то место, куда хотят, а из того места проволоку проводят на землю. Электричество в земле бежит опять назад к стаканчикам и поднимается к ним из земли по другой проволоке; так что электричество между двух мест не переставая ходит кругом, как в кольце, – по проволоке в землю и назад по земле, и опять по проволоке, и опять по земле. Если по проволоке пустить электричество и проволокою этой обмотать кусок железа, то железо это сделается магнитом и будет к себе притягивать другое железо.
Телеграф делают так: пустят электричество по проволоке, и проволокою этой обмотают железный столбик. А над столбиком приделан на перевесе железный молоточек. И пока электричество ходит по проволоке, железный столбик, обмотанный проволокой, притягивает к себе молоточек. Как только на другом конце – хоть за 100 верст – разведут концы проволоки врозь, электричество перестает ходить кругом, и железный столбик перестает быть магнитом и молоточек от него отпадает. Как сведут опять концы, так молоточек притягивается. И так можно с одной станции на другую постукивать молоточком. И по этим стукам уговорены знаки.
Мужик уронил топор в реку; с горя сел на берег и стал плакать.
Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?»
Мужик говорит: «Нет, не мой».
Водяной вынес другой, серебряный топор.
Мужик опять говорит: «Не мой топор».
Тогда водяной вынес настоящий топор.
Мужик говорит: «Вот это мой топор».
Водяной подарил мужику все три топора за его правду.
Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было.
Вот один мужик задумал то же сделать: пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал.
Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?»
Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!»
Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал – за его неправду.
Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево. Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит:
– Эх, ворон, как посмотрю на тебя, – по твоему росту да красоте только бы тебе царем быть! И, верно, был бы царем, если бы у тебя голос был.
Ворон разинул рот и заорал что было мочи. Мясо упало. Лисица подхватила и говорит:
– Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, быть бы тебе царем.
Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.
Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».
Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. Поехать; а если невеста хороша – и жениться можно».
Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.
На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ.
Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.
Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят – дожидаются.
Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.
Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, – опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар – ускачу. Или не ездить?..»
Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит:
– Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. – А Костылин – мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:
– А ружье заряжено?
– Заряжено.
– Ну, так поедем. Только уговор – не разъезжаться.
И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.
Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:
– Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.
А Костылин говорит:
– Что смотреть? поедем вперед.
Жилин не послушал его.
– Нет, – говорит, – ты подожди внизу, а я только взгляну.
И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал, глядь – а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, – человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:
– Вынимай ружье! – а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься – пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».
А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар – закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.
Жилин видит – дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам – думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит – близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.
«Ну, – думает Жилин, – знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».
А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».
На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, – навалилась Жилину на ногу.
Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, – да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами, – до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная, – на аршин кругом пыль смочила.
Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется, – он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.
Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.
Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.
Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.