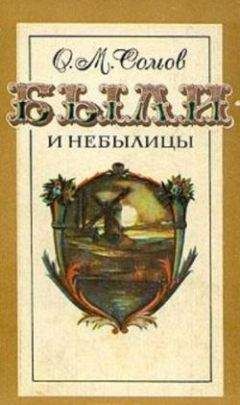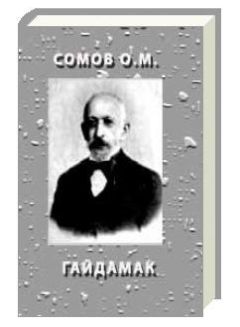В конце стола венгерское польского пана опять полилось в чары и в уста лакомых гостей. Сам поляк был еще веселее, разговорчивее и шутливее, нежели прежде. Он часто пил за здоровье молодых, приговаривая: «Горько!» в заставляя их целоваться; напевал малороссийские и польские песни, точил балы и был в полном смысле душою пирушки. Опять он велел принести большую свою серебряную стопу и пил из нее на коленях с паном Гриценком и старым Кветчинским.
С шумом и суматохою кончился обед. Начались громкие, крикливые разговоры; женщины уселись в кружок и запели веселые малороссийские песни; мужчины собрались около них, слушали и подтягивали. Между тем молодые, посаженные на почетном месте, почти не замечали того, что вокруг них происходило: они, так сказать, были погружены в настоящее и будущее свое благополучие. В таких приятных и невинных занятиях пролетело несколько часов. Тут только некоторые из гостей и хозяин дома заметили, что между ними кого-то недоставало, и сквозь туман винных паров наконец досмотрелись, что отлучившийся гость был веселый и добрый польский пан, сильно поколебавший, врожденное в малороссиянах предубеждение насчет поляков. Начали его искать повсюду — его нигде не было; люди его, прислуживавшие за столом, также все скрылись. Некоторые из самых любопытных гостей побежали осведомляться на дворе: поселяне, собравшиеся смотреть на свадьбу, сказали им, что несколько часов тому назад бричка польского пана выехала за ворота, конные служители его также поодиночке выбрались, а спустя немного сам он тихо вышел на улицу, сел в бричку и ускакал, окруженный своими проводниками.
И гости, и хозяин дивились такому странному поступку польского пана; отец Приси дивился также и тому, что ни слепой бандурист, ни Стецько не являлись во весь вечер. На многолюдных, шумных пирушках обыкновенно такие случаи на миг мелькают в понятиях собеседников и быстро сменяются другими впечатлениями. Какой-то залетный музыкант с скрипкою, песни, пляски и продолжительная попойка скоро вытеснили из согретых хмелем голов и польского пана с его забавными шутками, и слепца Нестеряка с его бандурой, и Стецька с его глупым взглядом и разинутым ртом.
Последний из них явился, однако ж, на другом день поутру. Он бросился в ноги своему пану, просил у него прощения за вчерашнюю свою отлучку и сказал, что слепой Нестеряк решительно отказался идти на свадьбу с своею бандурой. В то же время Стецько подал господину своему запечатанное письмо.
— От кого принял ты это письмо? — спросил пан Гриценко, еще не разламывая печати.
— От кого?.. — молвил Стецько, повторяя вопрос со всею медлительностию малороссиянина. — Да от нашего свата, польского пана…
— Где и как, — нетерпеливо подхватил Гриценко,
— Где?., в корчме, за селением, на большой дороге. Как?., я и сам порядком не помню; дайте надуматься. А! теперь кажется так: извольте слушать. Шедши домой от Нестеряковой хаты, я встретился с одним из шляхтичей, который дружески потрепал меня по плечу и сказал: «Прощай, товарищ! пан наш уехал, и я спешу вслед за ним. Да не можешь ли ты, прибавил он, — сослужить мне службу, показать мне дорогу а корчму, что за селением, по С…цкому шляху? Я тебе буду очень благодарен, и там мы расстанемся, как добрые приятели, за чаркою вина». — Виноват, грешный человек: я взялся его провожать, и там мы нашли польского пана со всеми его проводниками. Пан обошелся се мною ласково, потчевал меня сам из своих рук, дал мне на водку и велел подождать, пока напишет к вам письмо. В другой светлице шляхтичи окружили меня и пили со мною на расставанье до тех пор, что уж я и не помню, как заснул. Когда же проснулся, то уж ни пана, ни людей его не было, а корчмарь подал мне это письмо и крепко-накрепко наказал мне доставить его к вам, говоря, что если не доставлю, то польский пан отыщет меня хоть под землею и тогда бог весть, что со мною будет. Я испугался и своей отлучки из дому, и вашего гнева, и угрозы польского пана, опрометью бросился из корчмы и не помню, как меня ноги сюда донесли.
Пан Гриценко, выслушав этот рассказ, распечатал письмо. Судите ж об его удивлении, когда он прочел в нем следующее.
«Пан Гриценко! я хотел ограбить тебя, и уже все было к тому готово. Чтобы собрать моих удальцов в одно место, переодел я их в однорядку, и сам оделся поляком, потому что не имею в здешних местах надежного притина. В этом виде велел я самым лихим ребятам из моей вольницы съезжаться в одной корчме, где сам их дожидался. На твое счастье, приехал туда же нынешний зять твой, Кветчинский. Я хотел было отправить незваного гостя в нежданное место; но как я никогда не проливаю крови, то вздумал выведать хорошими средствами, не будет ли он нам помехой? Слово за слово, я вытянул из него всю подноготную: и любовь его к твоей дочери, и твой отказ, и его горе. Я от природы имею доброе сердце: мне стало жаль бедного Кветчинского: тотчас я переменил намерения на твой счет и решился помочь ему. Хорошо ли я в этом успел, сам ты знаешь. Прощай: люби дочь и зятя, надели их, как долг велит доброму отцу, береги мою шкатулку — она тебе пригодится, и будь милостив к своим служителям. Они такие же люди, как и ты. Если все это исполнишь по моему желанию, то можешь быть уверен, что никогда не встретишься с Гаркушею».
Лихорадочная дрожь проняла пана Гриценка во время этого чтения; ему казалось, что гайдамак все еще перед ним; робко взглянул он и увидел подле себя не Гаркушу, а слепого бандуриста.
— Я пришел поздравить вас, добродей, и пожелать счастья вашим молодым. Пусть их живут, как венки вьют! Вчерась же, винюсь, не пришел к вам на свадьбу: тут был недобрый человек, и я ни за что бы не хотел с ним быть под одною кровлею.
— Разве ты по чему-либо узнал гайдамака? — спросил пан Гриценко, пришедши несколько в себя.
— Ну, так! — подхватил слепой музыкант. — Я чувствовал, что здесь что-то недаром. Порядочный человек не стал бы бросать своих червонцев первому встречному. Сейчас же иду и отдам его дар на богадельню. Не хочу себе даров от нечистых рук.
— А я так приберегу свои десять серебряных круглевиков про черный день, — думал про себя Стецько, стоя у двери. — Нужды нет, что пришли ко мне из нечистых рук: на это есть мел и тертый кирпич.
Что думал пан Гриценко о своей шкатулке, мы не знаем; только он не отдал ее на богадельню. Может быть, от страха, чтоб не прогневить Гаркушу презрением к его подарку; или, может быть, хотел он возвратить ему шкатулку при первой встрече. Как бы то ни было, но он до самой смерти не упоминал о шкатулке ни зятю, ни дочери, и она перешла к ним как наследство отцовское.
Чи ти гордий, чи ти пишний
Чи гордо несешся?
Малороссийская песня
В жаркий июльский полдень, по дороге от Золочена к Сумам, медленно тянулись несколько повозок. Впереди ехал рыдван, или огромная коляска с отдергивающеюся кожею вместо дверец, с маленькими окошками, вставленными в позолоченные рамы, с вычурными украшениями из прорезной жести, положенной на алую фольгу, по углам, спереди и сзади кузова. Четвероугольный сей кузов поставлен был на низком ходу ярко-красного цвета Тяжелую эту колымагу тащила шестерня раскормленных лошадей, из которых четыре были впряжены рядом у дышла, а две впереди. Кучер и форейтор, или вершник, оба в белых свитах домашнего сукна, лениво и неловко правили этою шестернею. Рядом с кучером, на низких и просторных козлах, сидел небольшой, плотный человек, с предлинными угами и в странном наряде, на нем был разноцветный жупан, у которого одна пола была синяя, другая светло-зеленая, стан красный, а рукава желтые; шапка у него на голове была также особого покроя околыш ее сшит был до половины из черного и до половины из белого бараньего смушка, а верх, сделанный колпаком наподобие венгерского гусарского кивера, пестрел теми же четырьмя цветами, которые видны были в его платье. Широкие штофные шаровары с большими узорами всех возможных красок и сафьянные чоботы, из коих один красный, а другой желтый, с высокими медными подковами, дополняли убранство этого чудака, который часто оглядывался в окошко коляски, говорил по нескольку слов и возбуждал невольный, простодушный смех в неудалом кучере Два рослые хлопца, или лакея, в синих чекменях и казачьих шапках, стоя на большом сундуке, привинченном к запяткам коляски, и перегнувшись через кузов, скалили зубы вместе с кучером, а четыре проводника, ехавшие верхом по сторонам коляски, безвинно смеялись чужому смеху, хотя вовсе не слышали слов полосатого проказника. Между тем двое передовых, тихою ступью подвигаясь шагах в двадцати от передних лошадей, очищали дорогу, покрикивали на проезжих и дремали да покачивались в промежутках времени. Шесть больших повозок, или дорожных фур, тащились следом за коляской, на крестьянских лошадях, и нагружены были съестными припасами, погребцами с дорожною пропорцией водок и наливок, поваренною посудой, пуховиками, подушками, баулами, чемоданами, няньками, горничными девушками, поварами, босоногими мальчиками и пр. и пр. Шествие замыкалось двумя псарями, которые вели на сворах целую стаю собак, покуривая табак из коротких трубок, переглядываясь и посмеиваясь с горничными.