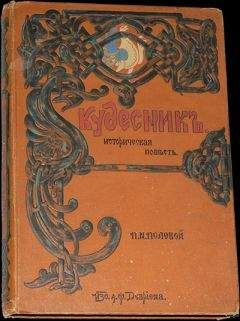— Здравствуй, здравствуй… Но, пожалуйста — я к тебе заехал только на минутку, и сейчас должен уехать… Пожалуйста, пойдем скорее в комнаты… Мне очень нужно с тобою поговорить.
— Изволь, изволь, любезный коллега! — сказал фон-Хаден, с улыбкой всматриваясь в встревоженное лицо Гутменша и заранее предугадывая причину его приезда.
Когда они вошли в дом, фон-Хаден, введя коллегу в столовую, сказал ему шутливо:
— Может быть, у тебя дело не очень важное — семейное — и мы могли бы здесь потолковать о нем за кружкою пива?
— Нет, нет!.. Какое же семейное, коллега?! — и, наклонившись к самому уху фон-Хадена, прошептал: — «Дело государственной важности».
— Ого! Ну, так пойдем ко мне, — и ввел Гутменша в свою рабочую комнату, тщательно притворив за собою дверь. Там опустился он в свое кожаное кресло и указал коллеге место против себя.
— Ну, говори! Готовлюсь тебя слушать, — сказал он Гутменшу, потирая руки.
— Ах, дорогой коллега, право, не знаю, с чего начать! — весьма приниженным и заискивающим тоном заговорил Гутменш. — У меня голова кругом идет от этого… от того…
Фон-Хаден не старался нисколько вывести его из затруднения и потешался над его смущением.
— Вот, видишь ли, в чем дело! — здоровье царя было все время очень хорошо и даже, можно сказать, удовлетворительно, и он был мною очень, очень доволен… Но вот теперь… теперь Бог весть почему… оно начинает изменяться…
Фон-Хаден все молчал и слушал, перебирая пальцами сложенных рук.
— Изменяться, — продолжал запинаясь Гутменш, — к худшему… Явилась бессонница… Пот по ночам… и… и… истощение сил, а вот вчера на ночь… и кровохарканье…
— Жаль мне царя! — с неподдельным чувством проговорил доктор Даниэль. — Конец, очевидно, близок.
— Как? Конец!? — вскричал Гутменш, вскакивая с места и хватаясь за голову.
— Просто конец — тот общий нам конец, который у всякой жизни, и у царской, и у нашей, всегда бывает один.
— Нет! Это невозможно! Невозможно! — твердил Гутменш, бегая по комнате и ероша волосы. «Кто бы мог это так скоро ожидать? Подумай сам… И я… я готов был поручиться, что он проживет многие годы…»
— И неужели совести хватило поручиться?
— Да! Но, конечно, условно… А теперь? Каково мое положение? Что я скажу? Как покажусь туда?.. Теперь ведь я все могу потерять!.. Я…
— И не только потерять, но еще отправиться в ту страну, из которой вывозят соболей… Бывает и это с неискусными царскими докторами.
— Добрейший коллега! Как тебе не стыдно? Ты войди в мое положение… Ты, я надеюсь, поможешь хоть чем-нибудь…
— Твое положение не вызывает с моей стороны никакого сострадания… Ты получишь только то, чего ты вполне заслужил… Мне жаль царя, который, оттолкнув меня, доверился тебе. А я отлично понимаю, какими средствами ты, потворствуя его прихоти и желаниям окружающих, довел его теперь до его печального положения.
— Бога ради, коллега! Помоги… Если не для меня, то для наших детей, — начал умолять Гутменш, готовый броситься на колени перед фон-Хаденом. — Помоги! Укажи мне, как я теперь должен действовать? Какие средства…
— Против смерти рецептов нет, почтенный коллега.
— Ну, не против смерти… А хоть чтобы оттянуть ее немного… Посоветуй.
— Нет, никаких советов тебе не дам, и не возьмусь исправлять твои злодейства! Иначе я и не могу назвать твоих действий, к которым побуждала тебя одна корысть и расчет на награды… Я подожду, пока меня призовут к смертному одру несчастного царя…
В это время на дворе опять раздался усиленный стук в калитку. Холоп едва успел ее открыть, как дворцовый пристав, сунувшись во двор, крикнул:
— Здесь, что ли, дохтур Гутменш? Зови его сюда скорее — во дворец требуют.
Холоп бросился исполнять приказание, а пристав остался у калитки.
— Слышишь? Тебя требуют, коллега! — сказал доктор Даниэль, поднимаясь с места. — Добро пожаловать.
Трудно передать словами то, что выразилось на лице совершенно растерявшегося Гутменша. Он то бледнел, то краснел; его бросало и в жар и в холод… Он весь трясся — и, кажется, готов был скорее провалиться сквозь землю, чем идти к постели своего высокого пациента… Но пристав кричал во дворе, что он ждать больше не будет; холоп торопил доктора, ежеминутно являясь на пороге, и Гутменш, ни жив, ни мертв, решился; наконец, отправиться к крыльцу, даже не попрощавшись с доктором Даниэлем, который посмотрел ему вслед и проговорил чуть слышно:
— Тяжкая расплата за ложь и корысть. Не дай Бог никому ничего подобного испытать!
Минуло еще две недели. Совсем повеяло весной. По всей Москве и в ее окрестностях началась ростопель; быстрое таяние снегов и разлитие вод сдерживалось только морозными утренниками. Но среди дня, при ярко-голубом и совершенно безоблачном небе, когда теплый ветерок, повевая, наносил от леса ароматы смолы и древесной почки, когда жаворонки весело и задорно распевали свои песенки, поднимаясь в небесную высь над просыпающимися полями, когда с крыш, гулко и звучно шлепая о лужи, скатывались капля за каплей — о, как хорошо становилось тогда на душе! Как легко дышалось! Как хотелось быть на воздухе, на солнце, на просторе!
Эти чувства хотя и смутно и бессознательно, но в высшей степени сильно и настойчиво испытывал царевич Петр, давно уже оправившийся от своей болезни. Никем не стесняемый, он с утра выбегал на широкий дворцовый двор и тут, окруженный толпою своих сверстников из детей дворцовых конюхов, неутомимо предавался тем разнообразным играм, которые были плодом его дивного неистощимого воображения. То разбивал он всю свою веселую гурьбу на кучки, которые должны были изображать отдельные полки, и каждой из этих кучек раздавал особые барабаны и знамена — потом строил их в ряды и заставлял проходить мимо себя с барабанным боем и криками:
— Здравие царевичу Петру Алексеевичу!
То делил своих сверстников на две группы, и одна из них должна была изображать «татарву», а другая — «православное воинство»; и так как он сам становился во главе этого воинства, то плохо приходилось от него бедной «татарве».
— Царевич! — обратился к нему один из сверстников, побойчее да посмелее других: — Что это значит, что сегодня к нам бояре из Москвы так разъездились? А?
— Верно, нужно им что-нибудь от матушки? — быстро сообразил царевич. — Кабы не нужно было, не поехали бы сюда!
— Вон, вон и еще колымага катит — большущая шестериком, и вершники в малиновых кафтанах! — закричало еще несколько голосов, указывая на дорогу.
— Ну, что нам до них за дело… Эй, по местам! — повелительно крикнул царевич, и, повинуясь его голосу, все действительно бросились занимать места, указанные каждому в игре, а о съезде большом и позабыли…
А между тем съезд был большой, и по важному делу… Можно сказать, что тут налицо была вся та партия, которая держала сторону Натальи Кирилловны и ее сынка-царевича: и князь Иван Алексеевич Голицын, по прозванию Большой Лоб, и князья Долгоруковы — Яков, Лука, Борис и Григорий — и Яков Никитич Одоевский, и старый князь Михаил Алегукович Черкасский, и старый князь Юрий Долгорукий, с сыном Михайлом Юрьевичем, и бояре Репнин и Троекуров, и трое Ромодановских, и трое Шереметевых, и Шеин… Все съехались в виду наступавшей важной, решительной, исторической минуты. Все съехались с утра, и с утра заседали в передней царицы Натальи Кирилловны, сговариваясь и совещаясь между собою прежде, чем царица позовет их на «тайное сиденье» в своей моленной. Сговаривались и совещались, и ждали каких-то важных вестей из Москвы.
— Я с патриархом говорил вчера, — тайно полушепотом сообщал князь Борис Голицын своему брату Ивану и еще двум-трем старейшим вельможам, — так патриарх за нас горой! Так прямо и сказал: «кому ж и царствовать, как не царевичу Петру? Царевича Ивана не могу благословить на царство…»
— Так и сказал? — спросил князь Михаил Алегукович Черкасский.
— Его слова я повторяю без перемены, — подтвердил князь Борис.
— Да если только запросят о царе у всех чинов людей Московского государства, так и задумываться нечего — и загадывать не надо! Наверно, в один голос изберут Петра, — с уверенностью сказал старый князь Ромодановский.
— И кто же решится из вельмож за Ивана голос подать? Никто! — горячо вступился старый князь Юрий Долгорукий. — У них полудюжины преданных людей не наберется: — ну, Голицын Василий, да Милославский-старик-лиса, да Тараруй, а там — все молодежь, да и то сбродная — с бору и с сосенки…
— Им с нами мудрено тягаться! — заметил кто-то в той же группе.
— Чего же мы ждем? О чем совещаться съехались? — шептались в то же время в другой, более молодой группе.
— Лыкова ждут, князя Иван Михайловича! — слышалось в ответ. — Тот должен свежие вести из дворца добыть!