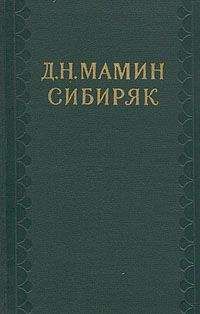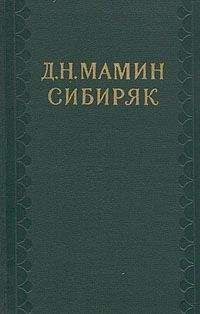- Для чего мне часы, Митус? - объяснял мне дедушка, он всегда называл меня Митусом. - У меня самые верные часы: видишь две ели, которые растут в огороде отца Вениамина, - вот тебе и часы. Солнышко налево - значит, утро; солнышко над ними - значит, полдень; солнышко направо - значит, вечер. Это мои стенные часы. Их заводить не нужно, и починки не требуют...
- А в дождь как?
- В дождь... Ну, тут у меня карманные часы действуют, - объяснял старик, хлопая себя по желудку: - захотел есть - значит, двенадцать часов. Эти часы подороже будут стенных, потому что каждый день требуют и завода и починки...
Одним словом, день здесь еще не дробился на часы, потому и самое время здесь катилось с такой же медленностью, как вода в горнощитной речонке. Там, где-то за горами, долами и лесами, человечество изнывает в суете и вечной тревоге, рассчитывая каждый час и каждую минуту, а здесь, в этом маленьком домике, день прошел, - и слава богу!
И в этот раз, как всегда, дедушка и бабушка были дома, когда я довольно торжественно подъехал на своей телеге к воротам. Выглянуло сморщенное лицо Феофилы Александровны, а из-за ее спины раздался веселый голос дедушки:
- А, Митус!
Покачивавшийся на ногах мужик внес мой мешок в "горницы" и получил стаканчик водки. Бабушка внимательно осматривала меня с ног до головы и почему-то качала головой. Это была полная старушка, ходившая по комнате с трудом и постоянно охавшая, что не мешало ей работать с утра до ночи и вести все хозяйство. В последние годы, по временам, бралась на побегушки какая-нибудь девчонка лет двенадцати, обязанности которой, главным образом, заключались в том, чтобы стрелой нестись в амбар или на погреб и приносить оттуда искомое. Но, привыкшая всю жизнь управляться одна, старушка страшно волновалась, и ей все казалось, что девчонка делает все не так. Я лично не особенно долюбливал Феофилу Александровну, потому что она постоянно ворчала, особенно на меня, благодаря неистощимым детским шалостям. К особенностям бабушки принадлежало еще то, что она каждую фразу начинала с междометия "ох!". "Ох, надо печку топить... Ох, надо воду носить!" и т.д. Старушка употребляла еще двойственную форму падежных окончаний, теперь окончательно вышедшую из употребления.
Дедушке Семену Степанычу было всего за пятьдесят лет. Это был небольшого роста очень крепкий мужчина, фигуру которого портил только как-то смешно округлившийся живот, и мне, когда я был маленьким, казалось, что у него под подрясником спрятан арбуз, вообще что-нибудь круглое. Красивое русское лицо Семена Степаныча, с небольшой русой бородкой и строгими серыми глазами, точно светлело от каждой улыбки. Он оставался неизменно спокойным, с какой-то строгой ласковостью в обращении, и каждое его слово имело вес.
- Ну, Митус, разве мы сегодня в баньку сходим? Хорошо с дороги распарить косточки...
Баня составляла в этом доме первое угощение, в котором дедушка любил принять участие и сам.
- Ох, он хочет есть, - спорила бабушка.
- Что же, сначала закусим, а потом и в баньку, - согласился дедушка.
У старушки была страсть всех кормить, и ей казалось, что все голодны. Обед полагался ранний, и мне пришлось довольствоваться холодными остатками, на которые я накинулся с волчьим аппетитом. Старушка принялась ставить самовар и все охала, поглядывая на меня, а дедушка похаживал по комнате и курил деревянную крестьянскую трубку. Эта последняя составляла предмет нашего жгучего детского любопытства, потому что дедушка не любил раскуривать ее спичкой, а высекал огонь из кремня на кусочек трута. Операция добывания огня этим старинным способом составляла мое любимое удовольствие, хотя стальной плашкой от излишнего усердия я и попадал часто вместо кремня по собственным пальцам. Дым от затлевшегося трута казался мне лучшим из всех ароматов, и я умолял дедушку, чтобы он позволял мне добыть ему огня, когда он, по его выражению, хотел после обеда "позолотить хлеб-соль". Бабушка добывала огонь лучинкой из печки, где загнета сохраняла жар целый день. Были серные спички, которые лежали в печурке, во к ним старушка прибегала только в самых крайних случаях, потому что не умела обращаться с новомодными спичками. Она брала такую спичку за самый конец, вероятно, чтобы не обжечь пальцев, долго и неумело чиркала ею по коробке и часто кончала тем, что только ломала спичку, не добившись огня.
В этом доме все делалось оригинально, до чаепития включительно. Самовар ставился на стол на особый поднос, чайник ставился на конфорку, и только наливали по одной чашке, как самовар сейчас же доливался, и приходилось ждать, когда он опять вскипит. Сколько выпивали чашек, столько раз ставили и самовар. Процедура довольно мучительная, особенно когда хотелось пить.
- Ох, растопится самовар, - охала старушка. - Какие нынешние самовары делают, только званье, что самовар.
У нас дома дело было совсем иначе, и я напрасно старался доказать бабушке, что самовар никогда не растопится, если его прикрыть крышкой.
- Ох, ничего ты не понимаешь, Митенька!..
Самовар считался новым и на этом основании находился в постоянном подозрении, но ему, вероятно, по меньшей мере было лет тридцать, судя по яйцевидной форме и ручкам.
III
Внутри домик дедушки состоял всего из двух комнат: кухни и собственно горницы. Кухня на одну треть была занята русской печью: Она служила и передней, и столовой, и приемной для не особенно важных гостей. Мне больше всего нравились полати, устроенные по-деревенски, где я любил спать. Обоев тогда не полагалось, и стены прямо по штукатурке окрашивали охрой или медным купоросом. Кухня содержалась в величайшей чистоте, и я не помню, чтобы в ней где-нибудь стояло неизбежное поганое ведро, лохань или что-нибудь подобное, что придает кухням такой непривлекательный вид. Собственно горница была втрое больше кухни и разделена зеленой ширмой на две половины, за ширмой была спальня дедушки и его гардеробная. Обстановка была самая скромная: простая деревянная мебель и маленький письменный столик в виде залавка, который заменял дедушке бюро, письменный стол и несгораемый шкаф. На столе лежали разные церковные деловые книги. Дедушка писал гусиными перьями и засыпал написанное мелким песочком. Полы были крашеные, и по ним шли домотканые дорожки из разноцветного тряпья. Ламп, как и у нас в Висиме, не полагалось, а по вечерам сидели с сальными свечами, что не составляло особенного неудобства, потому что долго "сумерничали" и ложились спать рано.
Главная особенность дедушкина домика от нашего висимского заключалась в том, что в нем не было книг... Были книги богослужебные, разрозненные тома какого-то духовного журнала - и только. О газете не было и помину. Меня это страшно удивляло, и когда я приставал к дедушке с расспросами на эту тему, он с улыбкой отвечал:
- А для чего мне книги?
- Да ведь скучно без книги? А из газет вы бы знали все, что делается на свете...
- Ну, у нас отец Вениамин читает и все расскажет, что случится. Он все у нас знает...
- Ох, все знает, - подтверждала бабушка, почему-то считавшая о.Вениамина самым хитрым человеком на свете. - Ох, он такой уж... Ну, да бог с ним.
Впоследствии я разыскал в кладовой какие-то необыкновенные синие рукописи, переплетенные в тома. Это были семинарские сочинения дедушки, писанные на латинском языке. Он учился в ту пору, когда в семинариях царил этот язык и семинаристы свободно не только писали, но и вели диспуты по-латыни. Мне делалось как-то невыразимо грустно, когда я вспоминал наш висимский книжный шкаф и своих любимых авторов, и я не мог понять, как дедушку не интересует чтение. Мне казалось, что я очутился в каком-то другом царстве, среди неизвестных людей, которые меня не понимают и которых я в свою очередь не понимаю. Припомнился мне и мой друг Костя, с которым мы читали запоем, - ведь Костя нигде не учился, а дедушка дошел в семинарии до философии, - значит, учился всему. В мою душу закрадывалось сомнение в пользе школьного образования.
Баню дедушка всегда топил сам, и все материалы для этого у него заготовлялись заранее и хранились в величайшем порядке - особо наколотые дрова и растопки. Баня была маленькая и летом заменяла спальню. Чистота в ней соблюдалась идеальная. На этот раз угощение банькой для меня кончилось довольно печально, - дедушка закрыл трубу раньше времени, и я угорел до обморока. Дедушка вытащил меня в предбанник и едва отлил холодной водой.
- А еще заводский человек, - шутил он, - живете в дыму, а тут угару испугался.
Любимой темой для разговоров со мной у дедушки были поддразнивания заводским дымом. Я отчаянно защищал свой Висим, как самое лучшее место в свете, а дедушка улыбался и повторял:
- Копоть, дым у вас... А у нас - одна благодать. Поля, луга, лес... Воздух чистый. У вас ни одного жаворонка нет...
- А у вас нет гор, настоящих лесов, - спорил я.
- У вас и лес дрянной: ель да осина. А у нас бор... Идешь как по ковру. Вот я осенью сколько сухих груздей и рыжиков наберу.