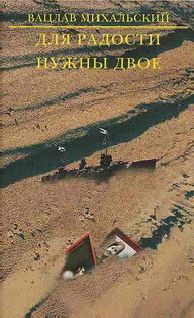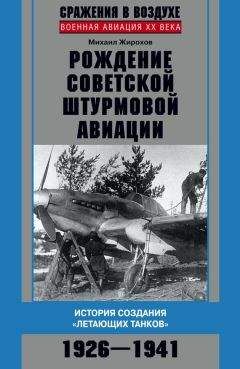Туман над бухтой расслаивался. Далеко на востоке большим розовым пятном поднималось солнце.
"Красиво, — подумал Иван Иванович, вдыхая свежий морской воздух, — ладно, перед смертью не надышишься". — И он поднял наган к виску.
— Ва-ня-я! — вдруг раздался рядом с ним душераздирающий женский крик.
Рука Ивана Ивановича, державшая наган, автоматически опустилась, и он резко обернулся на крик.
Это с соседнего балкона закричала в голос Александра Александровна.
Наверное, за полчаса перед тем, как пришел в гостиницу Батя, она проснулась как от толчка, и ужас охватил ее с головы до пят, до мурашек по спине. Зачем-то одевшись по форме, она вышла на балкон и стала наблюдать рассвет. Она уже видела много рассветов в своей пока короткой жизни, но всякий раз каждый новый восход солнца наполнял ее душу новым восхищением. А через две-три минуты вышел на балкон Батя, и она увидела его приставившим наган к виску. Тут-то и закричала Александра, да так пронзительно громко, что ее услышали многие, в том числе и комбат, слава Богу!
Он машинально поставил наган на предохранитель и сунул его в кобуру. А Александра уже влетела к нему в номер: двери комбат не закрыл, чтобы ребятам было проще с его телом…
Комбат шагнул с балкона в номер и тут же получил две горячие пощечины. А потом еще две: по левой щеке, по правой, по левой, по правой… Александра Александровна знала, как выводить людей из ступора. Искры полетели из глаз комбата, а потом он расхохотался, и вместе с ним хохотала и целовала его Александра:
— Ты что, дурачок? Ты что, родненький?
Потом они уселись по-родственному на зеленый плюшевый диван, точно такой же, как в ее номере, и Александра Александровна велела ему, как маленькому:
— Рассказывай.
Он рассказал все вкратце, без оценок.
— Гадина, — сказала она о московском генерале, — какая гадина… гнида! И из-за него стреляться?! Да ни в жизнь! Подумаешь, четыре чина сбросил! Ты все равно еще будешь настоящим генералом. У тебя талант, и ты умеешь беречь людей! А звездочку мою перевинтим… большую поменяем на маленькую. Делов куча!
Накануне штурма Севастополя Домбровской было присвоено звание младшего лейтенанта.
— А комдив наш молодец, он тебе жизнь спас, а ты…
— Ладно, забыли, — остановил ее Иван Иванович тоном, не допускающим возражений, и она поняла, что он окончательно пришел в себя.
— Дневальный, расстарайся два чая и какую-нибудь еду, — выглянув в коридор, попросила Александра Александровна.
— А ничего, что ты у меня? — смущенно спросил Батя.
— Ничего. Ко мне не пристанет.
"Боже мой, какой он еще молоденький! — глядя на опустившего глаза Батю, подумала Александра. — Мы ровесники, а где он и где я? Боже мой, и если бы не подняло меня провидение… Кажется, в ту минуту мне снился черный монах, во всяком случае, что-то черное, клубящееся, как смерч, вытягивающее душу…"
Солнечные лучи скользнули в окно и в раскрытую дверь балкона, радостно осветили комнату.
— Вот и новое утро, — сказала Александра, — скоро лето.
— Лето, — как эхо, отозвался Батя, но в голосе его не было радости.
В дверь постучали.
— Да, — властно сказал Батя.
Дверь приоткрылась, и вошел дневальный с большим металлическим подносом, оставшимся в гостинице, наверное, еще с довоенных времен. Поставив поднос на стол, дневальный начал ловко его «разгружать»: два фарфоровых чайничка со свежезаваренным чаем, два тонких стакана в мельхиоровых подстаканниках, килограммовая банка немецкой ветчины, предупредительно открытая, ваза с печеньем, белый хлеб, плошка с кусковым немецким сахаром и — о чудо — тонко нарезанный лимон, от запаха которого и от солнечного света стало так празднично, что даже Батя улыбнулся.
— Молодец! — похвалил он дневального.
— У нас и продуктики, и вилочки, и тарелочки, и чайнички, и все тебе на раз! Немчура-то все бросила, а жили здесь, видать, с удовольствием, — затараторил услужливый дневальный.
— Спасибо, — сказал Батя, — ну что, тебе нравятся "Три мушкетера"?
— Так точно! — козырнул дневальный, его сонное плоское лицо осветилось живым светом, и он вышел из комнаты.
— Елки-палки, я уже и не помню, когда видела лимоны! А запах, обалдеть! — Александра была в восторге и стала такой хорошенькой, такой домашней, что Батя отвел глаза.
Ели и пили они с наслаждением.
— Стыдно мне, — сказал погодя Батя, — считай, один килограмм ветчины умял.
— Ничего, — засмеялась Сашенька, — это на нервной почве! В медицине все описано. — Ешь на здоровье, ты еще можешь вырасти! Тебе двадцать пять?
— Да, через два месяца.
— Ну вот, у тебя еще два месяца на рост. Мужчины растут до двадцати пяти. Пей чай. Хорошо парень заварил, по-настоящему!
За годы войны Александра видела много жестокой несправедливости, исходившей от высших чинов по отношению к их подчиненным, а правильнее сказать, подвластным им людям. В сорок первом сплошь и рядом практиковались так называемые расстрелы на месте, не то что без суда и следствия, а даже без элементарного разбора ситуации; да и в сорок втором такое бывало часто, и в сорок третьем, только к сорок четвертому году болезнь пошла на убыль, но не исчезла и до конца войны.
Но то, что сделали с Батей, как-то особенно больно ударило по Александре. Она не знала другого такого настоящего командира и отца солдатам.
В то утро она привинтила ему свою маленькую звездочку на погоны и сказала:
— Ваня, я всегда буду тебя помнить. Я не останусь в этом батальоне. Меня давно зовут во фронтовой госпиталь. У тебя есть чем писать?
— Есть. — Он вынул из планшета командирской сумки карандаш и что-то похожее на блокнот.
— Я напишу тебе мой адрес. Домашний и больничный, в Москве.
— Спасибо, — зарделся младший лейтенант Иван Иванович. — Ты думаешь, довоюем до победы?
— Еще бы! — засмеялась Сашенька. — Обязательно до победы!
"Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?"
Русская народная песня
Африка пришлась по душе Ульяне Жуковой, и это очень порадовало Марию, вселило в нее новые надежды.
Возвращаясь из Марселя, яхта «Николь» достигла берегов Тунизии ранним утром. Однако Уля так боялась "проспать Африку", что дежурила на палубе еще с рассвета. Несший у руля вахту механик Иван Павлович Груненков приглашал ее к себе в рубку, но она отказалась.
— Лучше здесь постою…
— Вольному воля! — добродушно улыбнулся Иван Павлович. — Но сейчас мы запустим дизеля — ветер упал, а земля вот-вот проклюнется.
Гул дизельных моторов, легкое подрагивание корпуса яхты и иногда долетавшая вонь выхлопных газов, особенно остро ощущаемых на морском просторе, конечно же, мешали Уле наслаждаться и свежестью легкого бриза, и видом поднимающегося над чертой горизонта ярко-розового солнца, и даже самим морем — безмятежно тихим, ровным и необъятно большим.
Проснувшись на рассвете, Мария не обнаружила в каюте Улю и, накинув халат, чуть поднялась по ступенькам — выглянула на палубу, а увидев сестренку у поручней на носу яхты, зевнула и пошла досыпать. Нельзя было мешать Ульяне в ее первой встрече с terra incognita.[9] Мария по себе знала, что новые впечатления лучше не разделять ни с кем, а встречать их один на один, так сказать, лицом к лицу.
Вот и «проклюнулась» Африка.
Когда Иван Павлович сказал о земле «проклюнется», Улю как-то покоробило это слово, показалось неуместным, а когда она увидела всё воочию, то поняла, как он был точен. Земля действительно проклюнулась на самой кромке иссиня-пепельного небосвода, там, где соединялись море и небо. Сначала показалась, а точнее, проклюнулась, темная, неясная точка, медленно-медленно превращающаяся в серую полоску. И эта полоска все росла и ширилась на глазах, быстро становясь полосой, над которой вдруг возникли очертания гор Берегового Атласа, а там и белые кубики города на побережье, языки песчаных пляжей, синяя гавань с темными силуэтами кораблей и пальмы на приморском бульваре Бизерты — черные на фоне светлеющего неба, как будто игрушечные.
"Африка! Африка! Африка!" — восхищенно думала Уля, если, конечно, это восклицание можно назвать мыслью. Хотя, наверное, можно, потому что в одном-единственном слове было для Ули так много надежды, радости и невостребованной любви, что слово «Африка» стало для нее бo2льшим, чем изреченная мысль, гораздо бo2льшим…
Губернаторша Николь упросила Марию и Улю провести первые три дня в ее дворце. Разумеется, просила она Марию, а Уля помалкивала, во всем полагаясь на свою старшую сестру.
Конечно, и роскошь в убранстве помещений, и обилие слуг, и кухня с ее бессменным поваром Александером, и конюшня, и завтраки-обеды-ужины произвели на Улю сильное впечатление, но она не выказывала телячьего восторга, хотя и не скрывала своего удовольствия от всего увиденного, услышанного, съеденного, выпитого — будь то бедуинский кофе на углях или французские вина высшего качества.