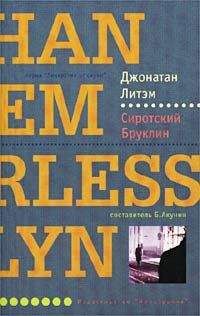в образе океанской птицы, баклана.
…В шестилетнем возрасте Бруно вместе с матерью – ее звали Джун – переехал из коммуны хиппи в округе Марин в Беркли. Он мало что помнил о жизни до Беркли, что вполне его устраивало – если бы мог, он бы вычеркнул из памяти и Беркли, и вообще всю жизнь в Калифорнии. Саму же коммуну, располагавшуюся в Сан-Рафеле, он вспоминал отрывочно, какими-то смутными вспышками: сообщество хиппи за коллективными ужинами перед тазиком дымящихся спагетти, их громкие голоса и откровения, постоянно нарушавшие его личное пространство, и еще душевые кабинки под открытым небом, где мать и другие члены секты устраивали коллективные помывки для него и стаи чумазых ребятишек. Самым ярким воспоминанием Бруно, до того как мать увезла его из той ужасной коммуны, была прогулка, которую он совершил вдвоем с маминым бородатым гуру на Стинсон-Бич – в то холодное утро они стояли одни на целом пляже. Если и было какое-то объяснение или причина того, почему гуру уделил мальчику особое внимание, ему об этом никогда – ни тогда, ни потом – не рассказывали.
Но сейчас, в машине Кёлера, Бруно вспомнил о том дне: гуру показал ему бакланов, облюбовавших скалистые утесы, что торчали над бескрайней гладью Тихого океана.
– Ты очень необычный ребенок, Александер, – сказал ему тогда гуру, пытаясь поймать его взгляд, а Бруно неотрывно смотрел на прибой и на черную птицу, качающуюся на волнах у берега. – Я вижу, как ты смотришь на Джун. Я вижу, как ты смотришь на всех. Ты глубокий.
Не хочу быть глубоким, подумал тогда ребенок. Хочу сделать потише голоса, эти безумные истеричные голоса всех вас, включая Джун. Хочу быть как та птица.
Проведя пять, если не шесть долгих часов в приемном покое отделения скорой помощи, прижав чемоданчик с комплектом для триктрака к заляпанной кровью белой рубашке и упершись затылком в твердую спинку стула, в позе, которая не давала ни малейшей возможности поспать, Александер Бруно зациклился на одной мысли: зачем эти красные отпечатки подошв на полу? Они были то ли нарисованы, то ли наклеены и тянулись куда-то внутрь здания. Он сидел, задумчиво рассматривая эти следы, щурясь от яркого сияния флуоресцентных ламп на потолке, за столом с твердой пластиковой столешницей, в помещении, стены которого были обшиты виниловыми панелями под дерево, под плоским телеэкраном с приглушенным звуком, на котором мелькали кадры новостей Германии, а за его спиной были двустворчатые двери в травмпункт. Минуты умирали одна за другой, превращаясь в часы.
Вместе с Бруно в приемном покое неизвестно почему находились в основном престарелые дамы – их было четыре или пять в разное время. Он мог бы вести мысленный учет их приходов и уходов, оценивать, кто из них насколько серьезно болен, а кто просто дожидался доставленного на скорой родственника, подмечать едва заметные различия в их поведении, но нет. Все они слились в один унылый портрет – точнее, в серию вариантов одного и того же портрета: «Престарелая дама в приемном покое». Ну и, конечно, помутнение, из-за которого картинка перед глазами была размыта, не позволяло ему четко разглядеть их лица.
Однообразие их компании нарушила молодая пара с завернутым в простынку младенцем: но после того, как они появились в приемном покое, их быстро куда-то увели, и больше они уже не вернулись. За это время он видел пару полицейских, стремительно продефилировавших по залу, массу усталых санитаров с нескрываемым выражением скуки на лицах – эти явно никуда не спешили. В столь поздний или, скорее, ранний час они просто отбывали тягостную повинность ночного дежурства. Похоже, никто в Берлине не получил удар ножом или пулю и не попал в автомобильную аварию. Во всяком случае, этой ночью. Кровавые пятна на рубашке Бруно выглядели тут странной аномалией. Если бы он удосужился выучить хотя бы одну полезную фразу на немецком, чего он, разумеется, не сделал, то мог бы сказать: «Это всего лишь кровь из носа».
Изоляция сознания от человеческого языка была полной – о большем он и мечтать не мог. Никто не вымолвил ни слова. А если кто-то заговаривал, то неслышно. Если же ему и удавалось расслышать слова, то все равно их говорили по-немецки. В памяти Бруно промелькнуло воспоминание о пребывании в подобном заведении, но это было вроде бы много лет назад. Его появление произвело здесь некоторый фурор, и он напряг память. Когда шофер Кёлера привел его сюда, все сочли, что он перенес инсульт. Дежурная медсестра показала его доктору, доктор натужно поговорил с ним по-английски с сильным акцентом, задав несколько стандартных вопросов, на которые Бруно смог ответить почти уверенно. Сильное впечатление произвело упоминание о мутном пятне перед глазами – как и о его коротком обмороке или припадке. Об этом мог бы чуть подробнее рассказать немец-толстосум, но его не оказалось рядом, когда же Бруно спросили, что тот имел в виду под словом «припадок», он вдруг понял, что и сам толком не знает.
Врач проверил его глаза. То, что раньше было личным секретом Бруно, о котором он с тревогой размышлял, теперь стало всеобщим достоянием. Во всем прочем, как ему казалось, он разочаровал врача. Конечности немеют, ощущаете там покалывание? Нет. С трудом вспоминаете нужные слова? Простите, нет. Не можете совершать простые привычные действия, с трудом ходите и поднимаете руки? Нет. К сожалению, Бруно был способен производить любые простые действия. Выполняя команды врача, после которых тому нечего или почти нечего было вписать в анкету нового пациента, Бруно ощутил, как поначалу напряженная атмосфера в смотровой рассеивается. Он еще больше разочаровал врача, признавшись в головных болях, в том, что накануне вечером перепил неразбавленного скотча, заев его немалой – по правде сказать, чрезмерной – дозой парацетамола. В последний момент, когда врач уже был готов его отпустить, Бруно упомянул об онемении губ. Врач поднял бровь. Неужели заинтересовался? Увы, нет. Бруно описал очень мало симптомов, характерных для инсульта, так что можно сказать, для отделения скорой помощи он как бы перестал существовать. Его вывели обратно в приемный покой.
Вопрос, что означает эта цепочка красных следов от подошв, которые тянулись от входных дверей через весь приемный покой и затем по одному из коридоров клиники, теперь стал для Бруно единственным занятием и утешением. Больше размышлять было не о чем. То есть не о чем, кроме мутного пятна или о том, как неудачно сложился у него вечер в доме Кёлера