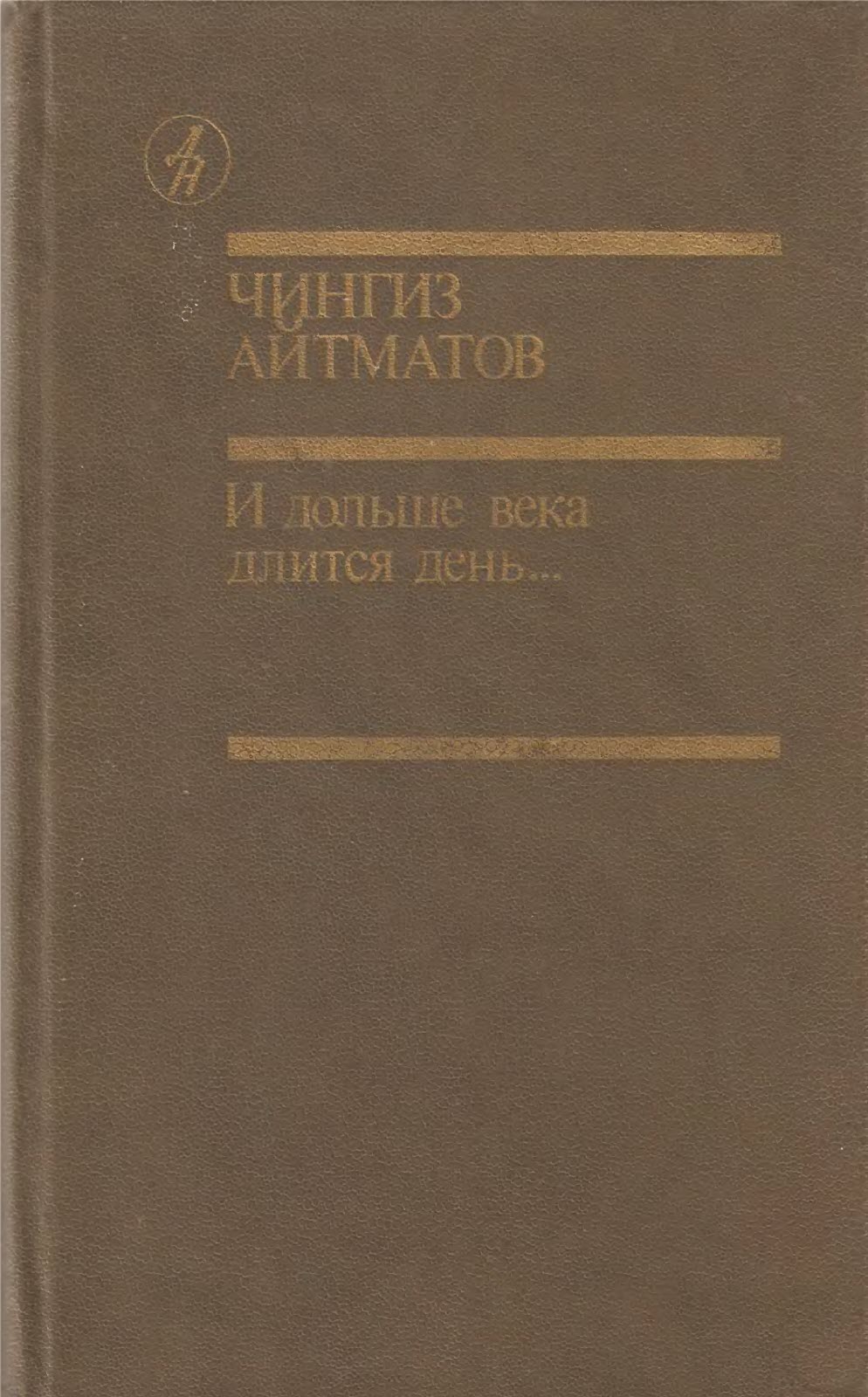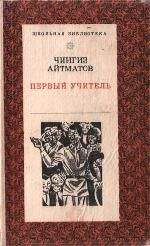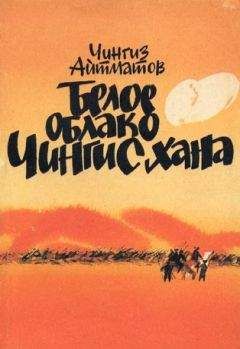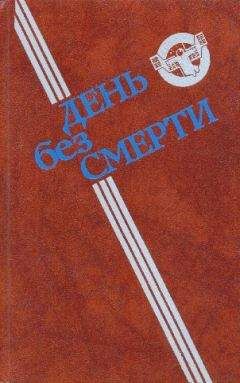в закопании скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрей, тем лучше.
Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство и город есть город…
Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:
— Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? — И замолчал, и его молча слушали боранлинцы. — Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.
И пошел, потемнев лицом, подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч, — Буранным прозвали еще и потому, что характером был под стать тому. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабит — жаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслужил. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются — приехал, мол сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достатке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка — тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются…
Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрикивая, пригнанный им с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что раза два приходил Каранар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство — свирепо разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая история — снова неволя, а к ней надо привыкать.
Едигей был раздосадован после разговора с Сабитжаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось — Сабитжан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрей отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлении к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто готовили и уже начали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы — топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабитжан мешался тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудной, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. «Что за люди пошли, что за народ! — негодовал в душе Едигей. — Для них все важно на свете, кроме смерти!» И это не давало ему покоя: «Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?»
Едигей в сердцах накричал на Каранара:
— Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам бог слышит? — Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путейцы придумали Буранному Каранару такую кличку за зубатую пасть его и злой норов. — Ты у меня докричишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!
Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился.
Залюбовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До головы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и когда наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей начал работу.
Оседлать верблюда по-настоящему — это большая работа, все равно что дом построить. Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы немалые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как Каранар.
Каранаром, то есть Черным наром, он прозывался неспроста. Черная патлатая голова с черной, росшей до загривка мощной бородой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до колен густой дикой гривой — главное украшение самца, — пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни, на спине. И в довершение всего, черный кончик куцего хвоста. А все остальное — верх шеи, грудь, бока, ноги, живот, — наоборот, было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был Буранный Каранар, тем и славен — и статью и мастью. И находился он в ту пору в самой атановской зрелости — третий десяток шел Каранару от роду.
Верблюды долго живут. Оттого, наверно, детенышей рожают на пятом году и затем не каждый год, а лишь в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше всех среди животных — двенадцать месяцев. Верблюжонка, самое главное, выходить в первые год-полтора, уберечь от простуды, от сквозняка степного, а потом он растет день ото дня, и тогда ничто ему