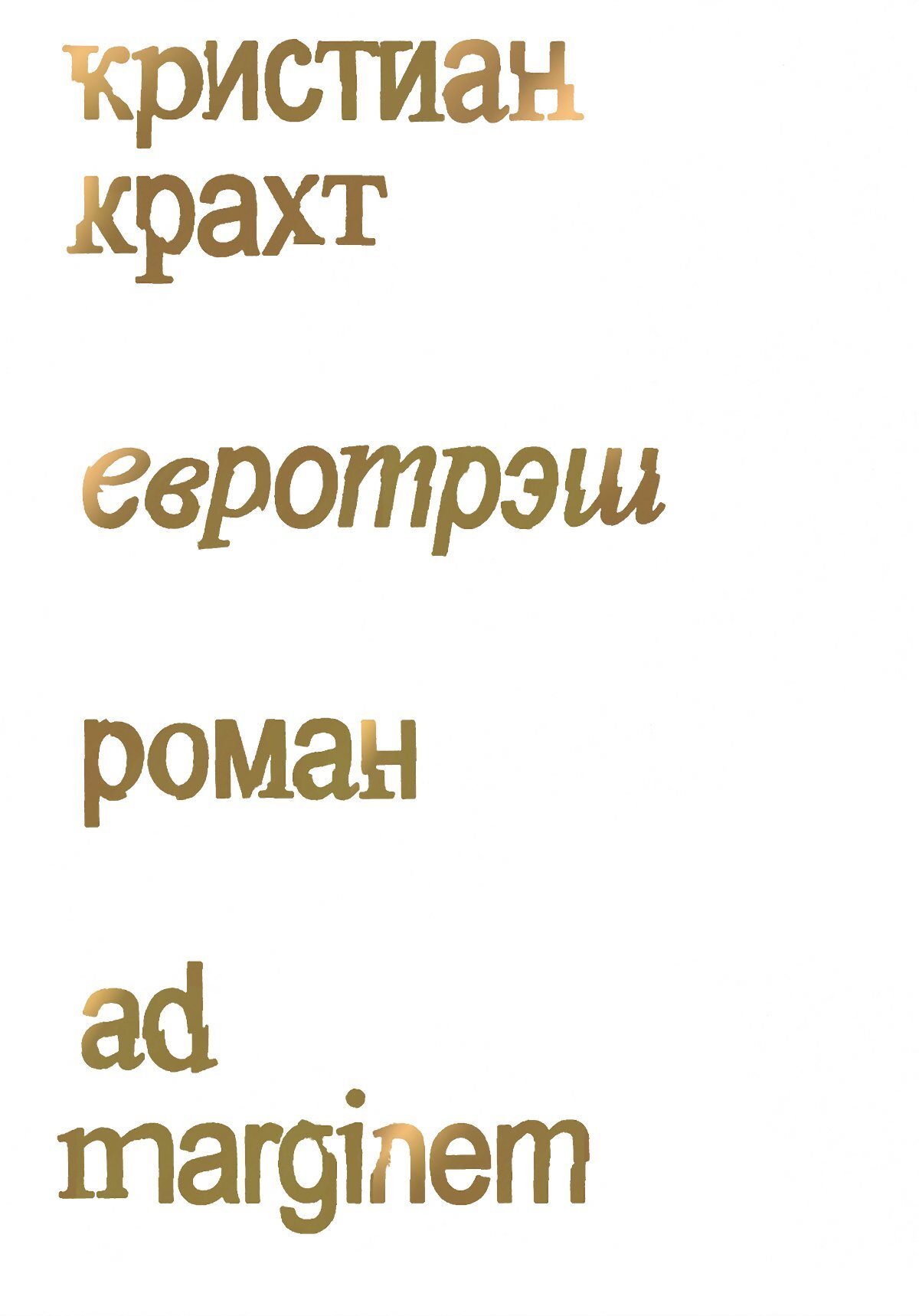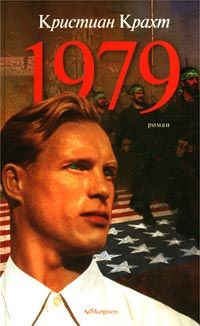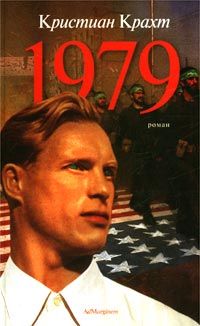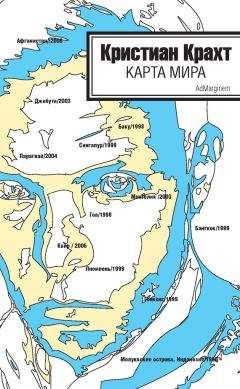всеми в меру сил. Самое главное для нас – справедливость. В начале можно вообще ничего не делать, а затем, если появится желание, можно стричь овец, чья шерсть в коммуне щадящим образом перерабатывается в свитера. Я не выбросил буклет, а сложил и засунул в карман пиджака.
Затем я спустился к завтраку, съел круассан и выпил три чашки черного кофе, прочел раздел местных новостей в «Новой Цюрихской Газете» и зашагал под утренним солнцем по булыжной мостовой к ближайшей цветочной лавке за розами цвета шампань. Сегодня я попросил девятнадцать роз, в отличие от тридцати пяти два месяца назад и двух дюжин в предыдущие месяцы.
Цюрих теснил и жал, маленькая цветочная лавка мне жала, старый город мне жал, дома пятнадцатого века, ни разу не разрушавшиеся во Вторую мировую войну, мне жали, дамы с пакетами торгового дома Гридер мне жали и путались под ногами, трамваи мне жали и путались под ногами, банкиры, шагавшие к своим банкам, чтобы нагрести еще золота в подвалах под Парадеплатц, мне жали, а недавно, несколько месяцев назад, я увидел на булыжной мостовой банановую кожуру и остановился посмотреть, что будет, но никто на ней не поскользнулся. Цюрихцы были слишком опытны, чтобы поскользнуться, слишком образцово-показательны, слишком уверены в себе, слишком пропитаны своим цюрихским мирком, где они закупались в бутиках, чья головокружительная арендная плата и дальше держала на плаву их Цюрих.
Но потом я подумал, как хорошо, что я могу находиться в Швейцарии и не вынужден находиться в Германии, где мостовые до сих пор липки от крови убитых евреев и где в людях нет ни малейшей стеснительности, хотя немного стеснительности им бы отнюдь не помешало. Германия, мужское население которой непрерывно орало прилюдно в свои мужские мобильники, особенно когда приезжало в Швейцарию, и это звучало и выглядело так, будто все они, расставив колени в креслах ВИП-зала аэропорта, говорят по телефону с отделом рейхспропаганды, в то время как на самом деле они разговаривали с рекламным агентством или со своим начальством. Это счастье, думал я, счастье, счастье, что я в Швейцарии.
И я пошел обратно по улице с обернутыми в целлофан розами в руке и у входа в гостиницу взял такси. Прочь из города к озаренной солнцем воде, к матери в это ее поганое предместье на Цюрихском озере; назвав шоферу адрес, я подумал, что сегодня ни за что не хочу попрекать мать ее жалким состоянием, а хочу спросить, почему учить меня плавать должен был непременно месье Пьер Грюнеберг.
Матери было невероятно важно, чтобы это был именно он и никто другой, как будто благодаря соприкосновению с Пьером Грюнебергом, благодаря одному лишь присутствию этого человека, жизнь моя сама собой приобретет более высокий полет, потому что maître-nageur [16] Грюнеберг обучал плаванию в бассейне «Отель дю Кап» детей Франка Синатры и Дэвида Нивена, а также детей Брижит Бардо, о которой в «Бунте» как-то написали, будто она замужем за моим отцом, человеком, как было написано в той же статье, в чьей спальне в гштадском шале по ночам не гаснет свет, потому что он всю ночь говорит по телефону с Токийской биржей, приумножая свое состояние.
Мне вспомнилась тайная, произносившаяся, сколько я помню, еле слышным шепотом, команда Пьера Грюнеберга; мне было тогда, наверное, года четыре, может, чуть больше. Команда звучала: grenouille, ciseaux, crayon [17]. Это было, глядя, так сказать, извне, с высоты прожитых лет, мое «Аса Ниси Маса» [18]. Магическое требование превратить детское тело в соленой воде неправдоподобно голубого гостиничного бассейна сперва в лягушку, потом в ножницы, а потом в карандаш. Руки и ноги нужно было оттопырить от туловища, согнуть, а затем распрямить – и повторить это сотню раз, тогда Пьер Грюнеберг бывал наконец доволен, и мать тоже.
Наш дом в Кап-Ферра стоял на утесе со стороны бухты Вильфранша. Мне вспомнились темно-синие и желтые с белой кромкой матрасы для лежаков внизу у бассейна. Обмотанные тюрбаном вокруг маминой головы полотенца от Гермес. Лимонные деревья на склоне, пиниевые орешки, которые можно было просто подбирать с земли и есть. Мистраль, задувавший зимой с Северного полюса на Лазурный берег, а однажды – зрелище увешанного флагами французского авианосца «Клемансо» в бухте перед домом.
Может быть, сегодня мне удастся по-настоящему с ней поговорить, может быть, сегодня мне удастся не идти на поводу у прошлого, может быть, сегодня мне удастся принять ее состояние по-настоящему, а не только для вида, и не потеряться сразу в кроличьей норе памяти, а остаться восприимчивым к настоящему моменту, к ее безумию, просто открыться ему. И что только ей понадобилось?
И тут такси подъехало к дому, я всегда боялся этого момента, когда машина медленно сворачивает к подъезду и тормозит, смутный, нелепый страх, что здесь, в жилой застройке цюрихского предместья, где живет мать, остановка запрещена, и уверенность, что соседи за толстыми стеклопакетами записывают номер подъехавшего автомобиля.
У цюрихцев для этой местности было в ходу гнусное выражение «Золотой берег», а может, так называли противоположную сторону озера, я никак не мог запомнить, какая сторона у них так называется, в конце концов, какая разница. Во всяком случае, она уже больше четверти века жила в этой поганой белой коробке начала девяностых годов, стилизованной под Баухаус, с видом на озеро. Мерзкое сооружение на дурацком «Золотом берегу», который, возможно, был на другой стороне озера, а вовсе не здесь. Я вышел из машины, расплатился и позвонил в дверь раз, потом другой. Втайне я ждал, что мать не откроет, и в то же время надеялся, конечно, что она откроет, жива и не лежит снова в луже крови.
Мать появилась, сгорбленная, улыбающаяся, и, когда я целовал ее три раза в щеки, пахла как всегда – «Пеплом роз» от Буржуа и едва уловимо лимоном. Эти черты были мне знакомее всех на свете, хотя в моих глазах навсегда запечатлелось молодое, светящееся радостным ожиданием лицо матери, какое я знал ребенком, а не нынешнее испещренное шрамами, искаженное, отекшее от водки, фенобарбитала, разочарования и боли лицо.
– Мамá, – с ударением на втором «ма». – Ты отлично выглядишь. – Лишь тот, кто жил до 1789 года, знает, каким удовольствием может быть жизнь, – ответила она. Это была ее любимая фраза, она вычитала ее когда-то у Талейрана и нашла забавной и применимой ко всему на свете – и так оно и было.
– Но хоть спалось тебе хорошо?
– Ты это всерьез? Мне не спалось