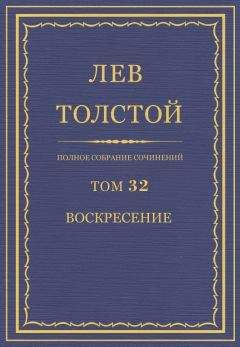Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.
— С тех пор я и сделался революционером. Да, — сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю.
Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив ее бессрочной каторгой.
В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел.
История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.
В тот день, когда на выходе с этапа произошло столкновение конвойного офицера с арестантами из-за ребенка, Нехлюдов, ночевавший на постоялом дворе, проснулся поздно и еще засиделся за письмами, которые он готовил к губернскому городу, так что выехал с постоялого двора позднее обыкновенного и не обогнал партию дорогой, как это бывало прежде, а приехал в село, возле которого был полуэтап, уже сумерками. Обсушившись на постоялом дворе, содержавшемся пожилой толстой, с необычайной толщины белой шеей женщиной, вдовой, Нехлюдов в чистой горнице, украшенной большим количеством икон и картин, напился чаю и поспешил на этапный двор к офицеру просить разрешения свидания.
На шести предшествующих этапах конвойные офицеры все, несмотря на то, что переменялись, все одинаково не допускали Нехлюдова в этапное помещение, так что он больше недели не видал Катюшу. Происходила эта строгость оттого, что ожидали проезда важного тюремного начальника. Теперь же начальник проехал, не заглянув на этапы, и Нехлюдов надеялся, что принявший утром партию конвойный офицер разрешит ему, как и прежние офицеры, свидание с арестантами.
Хозяйка предложила Нехлюдову тарантас доехать до полуэтапа, находившегося на конце села, но Нехлюдов предпочел идти пешком. Молодой малый, широкоплечий богатырь, работник, в огромных свеже-вымазанных пахучим дегтем сапогах, взялся проводить. С неба шла мгла, и было так темно, что как только малый отделялся шага на три в тех местах, где не падал свет из окон, Нехлюдов уже не видал его, а слышал только чмоканье его сапог по липкой, глубокой грязи.
Пройдя площадь с церковью и длинную улицу с ярко светящимися окнами домов, Нехлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа. Красноватые пятна огней становились всё больше и светлей; стали видны пали ограды, черная фигура движущегося часового, полосатый столб и будка. Часовой окликнул подошедших обычным: «кто идет?» и, узнав, что не свои, оказался так строг, что не хотел позволить дожидаться подле ограды. Но проводник Нехлюдова не смутился строгостью часового.
— Эка ты, паря, сердитый какой! — сказал он ему. — Ты пошуми старшого, а мы подождем.
Часовой, не отвечая, прокричал что-то в калитку и остановился, пристально глядя на то, как широкоплечий малый в свете фонаря очищал щепкой сапоги Нехлюдова от налипшей на них грязи. За палями ограды слышен был гул голосов, мужских и женских. Минуты через три зазвенело железо, дверь калитки отворилась, и из темноты в свет фонаря вышел старшой в шинели в накидку и спросил, чтò нужно. Нехлюдов передал свою заготовленную карточку с запиской, в которой просил принять его по личному делу, и просил передать офицеру. Старшой был менее строг, чем часовой, но зато особенно любопытен. Он непременно хотел знать, зачем Нехлюдову нужно видеть офицера и кто он, очевидно чуя добычу и не желая упустить ее. Нехлюдов сказал, что есть особенное дело, и что он поблагодарит, и просил передать записку. Старшой взял записку и, кивнув головой, ушел. Несколько времени после его ухода опять зазвенела калитка, и из нее стали выходить женщины с корзинками, туесами, крынками и мешками. Звонко болтая на своем особенном сибирском наречии, шагали они через порог калитки. Все они были одеты не по-деревенски, а по-городски, в пальто и шубки; юбки были высоко подтыканы, а головы обвязаны платками. Они с любопытством оглядывали при свете фонаря Нехлюдова и его проводника. Одна же, очевидно обрадовавшись встрече с широкоплечим малым, тотчас же ласкательно обругала его сибирским ругательством.
— Ты, леший, чего тут, язви-те, делашь? — обратилась она к нему.
— Да вот проезжего проводил, — отвечал малый. — А ты чего носила?
— Молосное, на утро еще велели приходить.
— А ночевать не оставляли? — спросил малый.
— Чоб тебе соскало, брехун! — крикнула она, смеясь. — Айда до села вместе, нас проводи.
Проводник еще что-то сказал ей такое, что засмеялись не только женщины, но и часовой, и обратился к Нехлюдову.
— Что же, найдете одни? не заблудите?
— Найду, найду.
— Как пройдете церковь, от двухъярусного дома направо второй. Да вот вам батожок, — сказал он, отдавая Нехлюдову длинную, выше роста палку, с которой он шел, и, шлепая своими огромными сапогами, скрылся в темноте вместе с женщинами.
Его голос, перебиваемый женскими, еще слышался из тумана, когда опять зазвенела калитка, и вышел старшой, приглашая Нехлюдова за собой к офицеру.
Полуэтап был расположен так же, как и все этапы и полуэтапы по сибирской дороге: во дворе, окруженном завостренными бревнами-палями, было три одноэтажных жилых дома. В одном, в самом большом, с решетчатыми окнами, помещались арестанты, в другом — конвойная команда, в третьем — офицер и канцелярия. Во всех трех домах теперь светились огни, как всегда, в особенности здесь, обманчиво обещая что-то хорошее, уютное в освещенных стенах. Перед крыльцами домов горели фонари, и еще фонарей пять горели около стен, освещая двор. Унтер-офицер подвел Нехлюдова по доске к крыльцу меньшего из домов. Поднявшись на три ступеньки, он пропустил его вперед себя в освещенную лампочкой, пропахшую угарным чадом переднюю. У печи солдат в грубой рубахе и галстуке и черных штанах, в одном сапоге с желтым голенищем, перегнувшись, раздувал самовар другим голенищем. Увидав Нехлюдова, солдат оставил самовар, снял с Нехлюдова кожан и вошел во внутреннюю горницу.
— Пришел, ваше благородие.
— Ну, зови, — послышался сердитый голос.
— В дверь ходите, — сказал солдат и тотчас же опять взялся за самовар.
Во второй комнате, освещенной висячею лампой, за накрытым с остатками обеда и двумя бутылками столом сидел в австрийской куртке, облегавшей его широкую грудь и плечи, с большими белокурыми усами и очень красным лицом офицер.
В теплой горнице, кроме табачного запаха, пахло еще очень сильно какими-то крепкими дурными духами. Увидав Нехлюдова, офицер привстал и как будто насмешливо и подозрительно уставился на вошедшего.
— Что угодно? — сказал он и, не дожидаясь ответа, закричал в дверь: — Бернов! самовар, что же, будет когда?
— Зàраз.
— Вот я те дам зàраз, что будешь помнить! — крикнул офицер, блеснув глазами.
— Несу! — прокричал солдат и вошел с самоваром.
Нехлюдов подождал, пока солдат установил самовар (офицер проводил его маленькими злыми глазами, как бы прицеливаясь, куда бы ударить его). Когда же самовар был поставлен, офицер заварил чай. Потом достал из погребца четвероугольный графинчик с коньяком и бисквиты Альберт. Уставив всё это на скатерть, он опять обратился к Нехлюдову.
— Так чем могу служить?
— Я просил бы свидания с одной арестанткой, — сказал Нехлюдов, не садясь.
— Политическая? Это запрещено законом, — сказал офицер.
— Женщина эта не политическая, — сказал Нехлюдов.
— Да прошу покорно садиться, — сказал офицер.
Нехлюдов сел.
— Она не политическая, — повторил он, — но по моей просьбе ей разрешено высшим начальством следовать с политическими…
— А, знаю, — перебил офицер. — Маленькая, черненькая? Что ж, это можно. Курить прикажете?
Он подвинул Нехлюдову коробку с папиросами и, аккуратно налив два стакана чаю, подвинул один из них Нехлюдову.
— Прошу, — сказал он,
— Благодарю вас, я бы желал видеться…
— Ночь велика. Успеете. Я вам велю ее вызвать.
— А нельзя ли, не вызывая ее, допустить меня в помещение? — сказал Нехлюдов.
— К политическим? Не по закону.