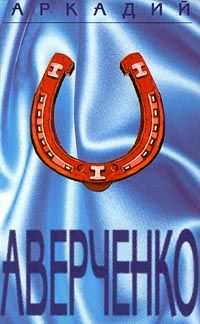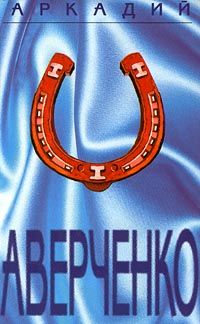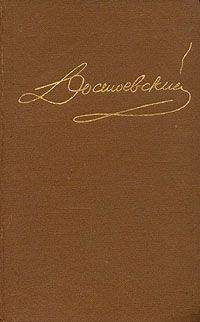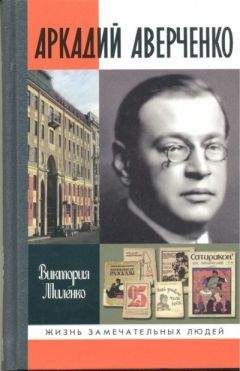Вспыхнул Скрипачев в последний раз этой фразой, затрещал и — погас, погрузился в ничтожество.
* * *
Бывая в одном доме, я, к своему удивлению, встретил Скрипачева. Осведомился:
— Зачем у вас этот-то?
— Да так… познакомились как-то летом на даче — вот он и считает нужным раза два в год появиться. Человечина ничего себе, но бесцветен до гнусности.
— А рассказывал он вам историю, как он разбойника поймал?
— Ну как же! В печенках у нас сидит эта история. Каждый раз обязательно на этого вора перескочит.
— Я так думаю, что у него на всю жизнь одна только эта история и есть… Вот он и питается ею, и пережевывает, каждый раз смачивая новой слюной…
Скрипачев в это время сидел около одной старухи и, поглаживая бородку, осведомлялся:
— Ну, как вы поживаете?
— Так бы оно ничего, да глазами слаба стала. По вечерам ни читать, ни вязать. А ночи теперь длинные да темные.
— И не говорите, — оживился Скрипачев, — эти темные ночи — такой ужас. Я думаю, все преступления совершаются в темную ночь. Вы, мадам, боитесь разбойников?
— Ох, батюшка, кто ж их не боится?
— Да, но никогда не нужно терять присутствия духа. Вот, например, была со мной однажды такая история…
— Поехал, — шепнул мне хозяин дома. — Ну его к черту — пойдем к столу.
Мне сделалось душно.
— Послушайте, — предложил я хозяину. — Давайте спрячемся во дворе, а когда этот Сивачев выйдет…
— Скрипачев, — поправил хозяин.
— А когда этот Скрипачев, Пиликин, Григорьев или Васильев выйдет, набросим ему на голову пальто, повалим да поколотим хорошенько…
— Что за фантазия, — поразился хозяин. — Зачем?
— Я не могу выносить «человека об одной истории»! Пусть будет «человек о двух историях»!
* * *
Должен покаяться: рассказав всю жизнь и приключения Ивана Николаевича Скрипачева, я как будто умышленно выдвинул на первый план только его бесцветность, его единообразие с тысячами других Скрипачевых…
Это не совсем справедливо: есть же у Скрипачева и что-нибудь свое, что отличало бы его от других Иван Николаевичей, есть же примета, по которой его можно было бы отличить от других Скрипачевых.
Такая примета есть. Она — единственная… Это его адрес.
Потому что: Иванов — миллионы, Николаевичей — тысячи, Скрипачевых — сотни. А таких Иванов Николаевичей Скрипачевых, которые жили бы на Московской улице, дом № 14, квартира 5, —только один.
Это и есть мой Скрипачев.
К уряднику Лапову пришел по делу бывший студент Огрызко.
Урядник пил чай и читал «Ведомости», но, увидев студента, оторвался от того и другого.
«Вишь ты, студент пришел», — подумал он.
О студентах у него было какое-то двойственное представление: с одной стороны, студент учится каким-то загадочным, странным наукам, почему Лапов питал ко всем студентам тайное уважение. С другой стороны, студенты бунтовали, почему Лапов питал к ним отвращение и тайный ужас.
Пришедший студент, однако, не имел в себе ничего страшного: его широкое бородатое лицо улыбалось, и серые глаза с ласковой плутоватостью поглядывали вокруг.
— Здравствуйте, — сказал Лапов. — Чем могу служить?
— Я, видите ли, бывший студент Огрызко.
— Так-с.
— И меня, изволите видеть, из этих палестин в прошлом месяце выслали.
— Так-с.
— А я вот вернулся.
— Правильно.
— Понимаете, я, собственно говоря, не имел права вернуться, но так как у меня есть некоторые дела насчет отцовского домишка, то я и вернулся.
— Великолепно.
— Вы находите? — неуверенно спросил Огрызко.
— Что ж тут плохого! Сведу я вас сейчас в кордегардию, а завтра с десятским в город, к исправнику.
— За что же, помилуйте?
— Ну, как же… Посудите сами: вы не имели права возвращаться?
— Не имел.
— А вернулись.
— Вернулся.
— Вот, значит, я вас снова арестовываю, посылаю к исправнику, а там — как он хочет. Ясно?
— Ясно. Только ведь мне тут нужно некоторые дела закончить, а потом я сам без посторонней помощи уехал бы.
— Да ведь это незаконно?
— Незаконно.
— Ну, вот видите.
Француза, австралийца или американца такая простая, ясная, как палец, логика урядника Лапова поколебала бы, но Огрызко не был ни французом, ни австралийцем.
Он задумчиво поглядел на урядника и спросил неопределенно:
— Куропаток любите?
— Я все люблю, — ответил урядник Лапов так же неопределенно и, кроме того, сухо.
— Тут мой братишка, знаете, несколько штук подстрелил, так я бы вам парочку, а? Жирные куропатки.
— Не нужны мне ваши куропатки, — со вздохом сказал Лапов. — Арестую я вас сейчас и, значит, тово… в кордегардию… А завтра…
— Поросят любите? — отрывисто спросил Огрызко.
На это урядник Лапов ответил с большим достоинством:
— Не дорос еще поросенок до того, чтобы я его любил.
— Молочный поросеночек. Братишка подстрелил. Такой, знаете, дуся, что поцеловать хочется.
Урядник отрицательно покачал головой. Сказал раздумчиво, адресуясь куда-то в угол:
— Арестую это, значит, я вас завтра и тово… к исправнику.
— Как вы смотрите на телячью ногу и бочонок соленых огурцов? — с любопытством спросил Огрызко. — Братишка, знаете, подстрелил, так я…
— Ну что вы такое говорите! Завтра, собственно, я занят, а послезавтра придется отправить вас к исправнику, чтобы, как говорится, закон исполнить в соответствии с начертаниями.
Студент вздохнул, засунул руку в карман, пошелестел там какими-то невидимыми бумажками и, затянувшись предложенной хозяином папиросой, сказал:
— Некоторые вот тоже певчую птицу обожают. Канареек. Знаете, желтенькая такая.
— Тоже нашли птицу. Смотреть не на что.
— Не скажите. Если пара… Хрустят, знаете.
— Ну, тоже нашли хрустенье! Так я, значит, так, как сказал: три дня поживете, а потом садимся мы с вами на подводу…
— Какие три дня! Я и в неделю не справлюсь…
— Не моя воля, сами понимаете.
— Я понимаю. Хорошо тут у вас на лоне природы. Зелени масса. Зелень любите?
— То есть? — прищурился Лапов.
— Я говорю: красивая вещь — зелень. Особливо ежели хрустит.
— Что вы все — хрустит да хрустит. Не люблю я зелени вашей. Что в ней! Одно легкомыслие.
— Да ведь я тихо, смирно устрою свои делишки с домишком, да и тово… Не подведу!
— При чем тут подведение. Слава Богу, не маленькие мы с вами.
— Когда зелень, то дышится хорошо. Ей-Богу.
— Кому как, господин Огрызко. Четыре дня я, конечно, могу и не знать, что вы приехали, но на пятый…
— Как можно не любить природы! — лирически прошептал Огрызко. — Люди, которые не любят зелени, все-таки должны любить ясное синее небо, любить ту синеву, которая…
— Хрустит? — иронически усмехнулся урядник Лапов.
— Бывает, что и хрустит. Подумайте! Когда глаз тонет в этой беспредельной синеве.
— Уж вы скажете тоже — беспредельная! В этакой- то чепухе да беспредельность… Эх, господин Огрызко!
— Что такое?
— Как говорится: в шесть дней сотворите все дела свои, в седьмой же — повезу я вас к исправнику, да и…
Студент с нетерпением перебил:
— Удивительный вы человек, право. Я вижу, вы без исправника дышать не можете! Кому он нужен? Вам — нет! Мне? Тем более. Слушайте, господин Лапов: не в исправнике истина, а в природе. В слиянии с нею! Поняли? Скажем, синева ясного неба оставляет вас равнодушным. Но Боже ты мой! Чье сердце не дрогнет при виде красного пылающего заката, того заката, который разлился громадной полосой, охватив чуть не полнеба…
— Полнеба? — скептически усмехнулся урядник. — Где же это полнеба? Которые? Я, конечно, не говорю… к исправнику можно и не ездить: у него дела — зачем же мы будем отнимать у него время, не правда ли?
— Золотые слова!
— Ну вот. Однако больше недели жить вам здесь никак нельзя. Вы только то сообразите…
Лапов был, очевидно, прижимистым человеком, но и Огрызко сдавал свои позиции с большим упорством и борьбой.
— Ни-ни. Меньше, чем в две недели, не управлюсь.
Лапов обиженно усмехнулся.
— Две недели! А вы давеча о каких-то канарейках говорили…
— Не понимаю я вас, — возбужденно вскричал бывший студент. — Ни птиц вы не любите, ни зелени, ни неба, ни заката. Что же, что в этом мире привлекает ваше сухое прозаическое сердце?
— Что? Вы дождик любите?
— И не подумаю его любить.
— Ну, вот и я тоже. Промокнешь до костей — что толку! Зато после дождя, когда выглянет эт-то радуга, да заиграет эт-то она…
— Редкая вещь радуга, — сухо сказал Огрызко. — Да и не к сезону она. Нет, радуга — это штука невозможная.
— Не признаете? А красивая вещь. Тут тебе и желтое, и красное, и синее, и зеленое — все чего хочешь. Под такой радугой и живется особенно. Хоть две, хоть три недели живи — одно тебе удовольствие.