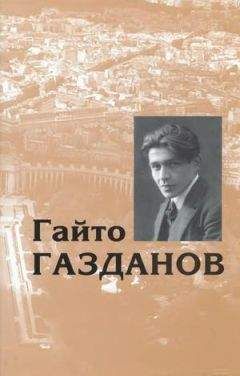Но уже через несколько месяцев Марью Матвеевну нельзя было узнать. Изменилось выражение ее глаз, ставшее тревожно-ласковым, побелела кожа на руках, чудом исчезли морщины с лица, и еще позже Алексей Степанович совершенно случайно встретил ее на улице в обществе какого-то сомнительного субъекта средних лет, который держал ее за талию.
– Что это значит? – спросил потом Алексей Степанович. Она посмотрела На него долгим взглядом и ответила:
– Это значит, милый друг Алеша, что мне тридцать девять лет и что я хочу жить. Теперь ты понимаешь, что это значит?
– Считаешь ли ты, что это хорошо?
– Je m'en f…[117] – сказала она по-французски. – Что у меня есть? Пьяный сумасшедший и ты, которому я больше не нужна – ты приходишь раз в месяц. И есть деньги, твои деньги. И кто мне имеет право что-либо запретить? Ты знаешь, что я заплатила достаточно дорого за те удовольствия, которые могу теперь получить.
– Тебе виднее, конечно, – сказал Алексей Степанович, – я тебя не обвиняю, я, действительно, не имею права. Прости меня, пожалуйста.
Они сидели в ее квартире, тикали часы, у подножья которых лежал черный мраморный леопард, – и на деньги, которые, наверное, были заплачены за эти часы, в прежнее время семья могла бы жить два месяца. Алексей Степанович вздохнул, поцеловал руку Марьи Матвеевны и ушел.
Сын Марьи Матвеевны кончил лицей и учился в университете; он приходил иногда в гости к Алексею Степановичу, и тот удивлялся, сколько этот молодой человек хрупкого вида может съесть. Потом он решил, что Анатолий должен что-нибудь делать, помимо своих университетских занятий, и назначил его своим секретарем; но все это было только предлогом, и главное, чего хотел Алексей Степанович, было видеть Анатолия как можно чаще. Анатолий несколько раз в неделю приезжал на автомобиле, который, как решил Алексей Степанович, ему полагался по служебным обязанностям, и рассказывал о письмах, которые получались на разных языках и в которых почти всегда заключалась просьба о помощи.
Анатолий был единственным человеком, которого Алексей Степанович еще любил. Было неизвестно, чей он сын – Сусликова или Алексея Степановича. Марья Матвеевна в разные периоды жизни и в зависимости от настроения то говорила Алексею Степановичу: – Не забывай, что у тебя есть сын; – то напоминала ему: – Помни, что этот ребенок не имеет к тебе никакого отношения. – Анатолий родился в России, и теперь вспомнить и выяснить это не было никакой возможности. Но даже это было неважно. На Анатолия богатство не подействовало. Он любил книги, библиотеки и музыку и ничем другим не интересовался; был немного наивен, честен и прям. И только с Анатолием Алексей Степанович еще шутил и чувствовал себя легко, избавляясь на несколько часов от того чувства непобедимого отвращения ко всему, которым была заполнена его жизнь и о котором ни он, ни доктора не говорили ни слова, хотя именно этот вопрос был самым важным и самым страшным.
* * *
Алексей Степанович поговорил с Анатолием полчаса, предложил ему остаться завтракать, шутил, и, казалось, дурное настроение, владевшее им с утра, несколько рассеялось. Но оно снова усилилось после завтрака, когда к Алексею Степановичу пришел инженер Уральский со своей очередной женой.
Инженер Уральский был человек лет сорока, пухлый и жизнерадостный, обжора и веселый собеседник. Когда он переставал шутить и говорил серьезно, становилось заметно, что он довольно образован, очень понятлив и неглуп. Он, однако, отличался излишним любвеобилием, все женился и разводился – вот уже в четвертый раз за четыре года, – и во всех его женах было нечто странное и роднившее их друг с другом, несмотря на разницу лет, цвета волос, роста и размеров, какой-то привкус дешевого и непременно иностранного полусвета, – так что со стороны было впечатление, что это все одна и та же женщина, обладающая большим, хотя и небезграничным, даром превращения. Но самым удивительным и печальным было другое – именно то, что в присутствии любимой женщины Уральский становился совершенным идиотом и добиться от него положительного ответа на какой-нибудь деловой вопрос было невозможно. Он мычал, глупо улыбался, смотрел на любимую женщину, он терял все свое остроумие и всю сообразительность, и на него было жалко и противно смотреть.
Он привел свою новую жену, чтобы познакомить ее с Алексеем Степановичем. У нее был довольно широкий зад, большие черные глаза, чудовищно лишенные какого бы то ни было человеческого выражения, очень красные губы и медно-рыжие волосы. Алексей Степанович все старался вспомнить, где он уже видел такие глаза, сделал усилие – и вспомнил, что это было в Берлинском зоологическом саду перед решеткой той нелепой разновидности антилопы, которая называется гну.
Разговор не клеился, жена Уральского к тому же не знала по-русски, и Алексей Степанович должен был пользоваться французским языком, который он ненавидел за то, что ему приходилось напрягать свое внимание и случалось помимо желания говорить вещи, которых он вовсе не думал и которые не могли бы быть сказаны, если бы тот же разговор велся по-русски. Когда Уральский уходил, Алексей Степанович не сдержался и спросил:
– И откуда вы их таких выкапываете?
За последнее время он привык к тому, что может говорить с людьми откровенно и то, чего раньше он никогда не сказал бы, теперь выходило просто и естественно; теперь на него уже не могли обидеться, потому что – Алексей Степанович это прекрасно знал – это было невыгодно. Как бы резко он ни говорил, его собеседники превращали это в шутку; и это было первое наблюдение, заставившее его задуматься над тем, не ошибался ли он всю жизнь, полагая, что известные вещи хороши, а другие плохи, приятны или неприятны, оскорбительны или неоскорбительны.
Он раскрыл газету, прочел несколько строк и отложил ее в сторону, продолжая почти невольно думать все над теми же вопросами, которые пришли ему в голову несколько лет назад и с тех пор не давали покоя. Когда он был беден, не было времени думать об отвлеченных вещах: надо было доставать деньги, ходить, просить, сидеть часами, ожидая людей, от которых зависел очередной заработок в несколько сот франков, – и на это уходило все время и вся энергия. Но потом, когда это прекратилось и когда Алексей Степанович после месяца сумбурной жизни, в которой с невиданным до тех пор разнообразием сменялись впечатления, ощущения, люди, дела, впервые остался один в своей новой квартире и когда ему решительно нечего, казалось, было желать, – он ощутил тоску и пустоту в душе; и с этого времени она уже его не покидала, так же, как многочисленные болезни, которые, в сущности, были и раньше, но к которым он за недостатком времени и денег относился невнимательно. Теперь каждое его ощущение приобретало явную ценность – и насколько раньше было неважно, что Алексей Степанович Семенов, этот полный и плохо одетый человек, живущий в дешевой комнате, за которую, вдобавок, он неаккуратно платил, страдает от ревматизма, настолько теперь это было существенно и значительно; и каждая боль обслуживалась доктором, массажистом и владельцем аптеки, продававшим Алексею Степановичу множество дорогих и бесполезных лекарств. Раньше самому Алексею Степановичу было не особенно интересно, что и как он думает; теперь, когда у него оказалось много свободного времени, эти досуги заполнялись постоянным обдумыванием многих вещей, точно впервые представших пред ним.
Он посмотрел на портрет, висевший на стене; это был портрет дочери Сусликова, умершей несколько лет тому назад. Бе Алексей Степанович знал и помнил все двенадцать лет ее жизни; помнил ее с соской во рту, потом маленькой девочкой в белом платьице и потом в Париже, когда она возвращалась из школы с пальцами, запачканными чернилами, – как возвращались в свое время ее мать и отец и сам Алексей Степанович. Потом была длительная болезнь, и Алексей Степанович помнил это бедное худенькое тело на простынях кровати, которое переворачивали и щупали доктора, и ужасные ее глаза. Когда он подходил к ней, она всегда протягивала ему руки трогательным и доверчивым детским движением, которое каждый раз вызывало у него слезы. За время ее долгой болезни все настолько привыкли к ней, что уже почти не обращали внимания на ее стоны и тихий плач; изредка мать ей говорила быстрым и равнодушным голосом нежные слова, не вязавшиеся с этими привычными и небрежными интонациями. И только Алексей Степанович, любивший ее больше всех, был неизменно внимателен к малейшему ее движению, которое отдавалось болью во всем ее теле.
И затем, уже в последние дни болезни, ее глаза приняли тот свинцовый, непрозрачный оттенок, который Алексей Степанович знал очень хорошо и в значении которого нельзя было ошибиться. В бессильном и смертельном отчаянии, глядя в эти тускнеющие глаза, Алексей Степанович думал, что отдал бы все немногие радости своей жизни и самую жизнь за то, чтобы ее спасти; но эта его готовность была так же бесполезна, как все остальное. И вскоре наступил день, когда глаза закрыли, положив на них монеты, – и худенькое тело после нескольких часов мучительной агонии стало неподвижным. Алексею Степановичу казалось тогда, что и он, в сущности, умер для всего, и так нелепо чудовищно и неподвижно глядели на него все привычные предметы – стол, кровать, кресло, – потерявшие свой прежний смысл, как все существующее. Алексей Степанович так никогда и не оправился от этого. После того как он увидел эту самую страшную вещь, появление которой уничтожало все и делало бессмысленным и бессодержательным все лучшее, что он знал в жизни, он понял не умом, а чем-то другим, бесконечно более верным, страшную и непреодолимую истину, о которой нельзя было рассказать и которая погружала в непрекращающуюся и смертельную печаль весь этот напрасно существующий мир. И в этом Алексею Степановичу не могло уже помочь ничто, и всесильное его богатство здесь оказывалось таким же несостоятельным и ненужным, как все остальное.