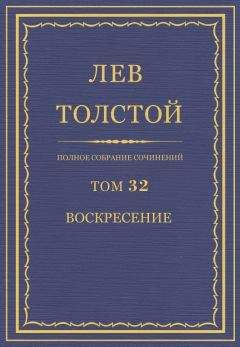В небольшой камере были все, за исключением двух мужчин, заведывавших продовольствием и ушедших за кипятком и провизией. Тут была старая знакомая Нехлюдова, еще более похудевшая и пожелтевшая Вера Ефремовна с своими огромными испуганными глазами и налившейся жилой на лбу, в серой кофте и с короткими волосами. Она сидела перед газетной бумагой с рассыпанным на ней табаком и набивала его порывистыми движениями в папиросные гильзы.
Тут же была и одна из самых для Нехлюдова приятных политических женщин — Эмилия Ранцева, заведывавшая внешним хозяйством и придававшая ему, при самых даже тяжелых условиях, женскую домовитость и привлекательность. Она сидела подле лампы и с засученными рукавами над загоревшими красивыми и ловкими руками перетирала и расставляла кружки и чашки на постланное на нарах полотенце. Ранцева была некрасивая молодая женщина с умным и кротким выражением лица, которое имело свойство вдруг, при улыбке, преображаться и делаться веселым, бодрым и обворожительным. Она теперь встретила такой улыбкой Нехлюдова.
— А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали, — сказала она.
Тут же была в тени, в дальнем углу, и Марья Павловна, что-то делавшая с маленькой белоголовой девчонкой, которая не переставая что-то лопотала своим милым детским голоском.
— Как хорошо, что вы пришли. Видели Катю? — спросила она Нехлюдова. — А у нас вот какая гостья. — Она показала на девочку.
Тут же был и Анатолий Крыльцов. Исхудалый и бледный, с поджатыми под себя ногами в валенках, он, сгорбившись и дрожа, сидел в дальнем углу нар и, засунув руки в рукава полушубка, лихорадочными глазами смотрел на Нехлюдова. Нехлюдов хотел подойти к нему, но направо от двери, разбирая что-то в мешке и разговаривая с хорошенькой улыбающейся Грабец, сидел курчавый рыжеватый человек в очках и гуттаперчевой куртке. Это был знаменитый революционер Новодворов, и Нехлюдов поспешил поздороваться с ним. Он особенно поторопился это сделать потому, что из всех политических этой партии один этот человек был неприятен ему. Новодворов блеснул через очки своими голубыми глазами на Нехлюдова и, нахмурившись, подал ему свою узкую руку.
— Что же, приятно путешествуете? — сказал он, очевидно, иронически.
— Да, много интересного, — отвечал Нехлюдов, делая вид, что не видит иронии, а принимает это за любезность, и подошел к Крыльцову.
Наружно Нехлюдов выказал равнодушие, но в душе он далеко не был равнодушен к Новодворову. Эти слова Новодворова, его очевидное желание сказать и сделать неприятное нарушили то благодушное настроение, в котором находился Нехлюдов. И ему стало уныло и грустно.
— Что, как здоровье? — сказал он, пожимая холодную и дрожащую руку Крыльцова.
— Да ничего, не согреюсь только, измок, — сказал Крыльцов, поспешно пряча руку в рукав полушубка. — И здесь собачий холод. Вон окна разбиты. — Он указал на разбитые в двух местах стекла за железными решетками. — Что вы, отчего не были?
— Не пускают, строгое начальство. Нынче только офицер оказался обходительный.
— Ну, хорош обходительный! — сказал Крыльцов. — Спросите Машу, что он утром делал.
Марья Павловна, не вставая с своего места, рассказала то, что произошло с девочкой утром при выходе из этапа.
— По-моему, необходимо заявить коллективный протест, — решительным голосом сказала Вера Ефремовна, вместе с тем нерешительно и испуганно взглядывая на лица то того, то другого. — Владимир заявил, но этого мало.
— Какой протест? — досадливо морщась, проговорил Крыльцов. Очевидно, непростота, искусственность тона и нервность Веры Ефремовны уже давно раздражали его. — Вы Катю ищете? — обратился он к Нехлюдову. — Она всё работает, чистит. Эту вычистила, нашу — мужскую; теперь женскую. Только блох уж не вычистить, едят поедом. А Маша что там делает? — спросил он, указывая головой на угол, в котором была Марья Павловна.
— Вычесывает свою приемную дочку, — сказала Ранцева.
— А насекомых она не распустит на нас? — сказал Крыльцов.
— Нет, нет, я аккуратно. Она теперь чистенькая, — сказала Марья Павловна. — Возьмите ее, — обратилась она к Ранцевой, — а я пойду помогу Кате. Да и плед ему принесу.
Ранцева взяла девочку и, с материнскою нежностью прижимая к себе голенькие и пухленькие ручки ребенка, посадила к себе на колени и подала ей кусок сахара.
Марья Павловна вышла, а вслед за ней в камеру вошли два человека с кипятком и провизией.
Один из вошедших был невысокий сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб.
— Ну, вот и князь наш объявился, — сказал он, ставя чайник среди чашек и передавая хлеб Масловой. — Чудесные штуки мы накупили, — проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар. — Маркел молока и яиц купил; просто бал нынче будет. А Кирилловна всё свою эстетическую чистоту наводит, — сказал он улыбаясь, глядя на Ранцеву. — Ну, теперь заваривай чай, — обратился он к ней.
От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью. Другой же из вошедших — тоже невысокий, костлявый, с очень выдающимися маслаками худых щек серого лица, с прекрасными зеленоватыми широко расставленными глазами и тонкими губами — был человек, напротив, мрачного и унылого вида. На нем было старое ватное пальто и сапоги с калошами. Он нес два горшка и два туеса. Поставив перед Ранцевой свою ношу, он поклонился Нехлюдову шеей, так что, кланяясь, не переставая смотрел на него. Потом, неохотно подав ему потную руку, он медлительно стал расставлять вынимаемую из корзины провизию.
Оба эти политические арестанта были люди из народа: первый был крестьянин Набатов, второй был фабричный Маркел Кондратьев. Маркел попал в революционное движение уже пожилым тридцатипятилетним человеком; Набатов же с восемнадцати лет. Попав из сельской школы по своим выдающимся способностям в гимназию, Набатов, содержа себя всё время уроками, кончил курс с золотой медалью, но не пошел в университет, потому что еще в VII классе решил, что пойдет в народ, из которого вышел, чтобы просвещать своих забытых братьев. Он так и сделал: сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки и устроил среди них потребительное и производительное товарищество. В первый раз его продержали в тюрьме 8 месяцев и выпустили под негласный надзор. Освободившись, он тотчас же поехал в другую губернию, в другое село и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли и на этот paз продержали год и два месяца в тюрьме, и в тюрьме он еще укрепился в своих убеждениях.
После второй тюрьмы его сослали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав 7 месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда за отказ от присяги новому царю его приговорили к ссылке в Якутскую область; так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли ее. Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для, той цели, которую он себе поставил, а именно: просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа; когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую — и физическую и умственную работу, не покладая рук без сна, без еды. Как крестьянин, он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах и естественно воздержан и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Старуха-мать его, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, и Набатов помогал ей и, когда был на свободе, навещал ее. Во время своих побывок дома он входил в подробности ее жизни, помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами; курил с ними тютюн в собачьей ножке, бился на кулачки и толковал им, как они все обмануты и как им надо выпрастываться из того обмана, в котором их держат. Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа — в этом он не сходился с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым, — революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо-любимого им старого здания.