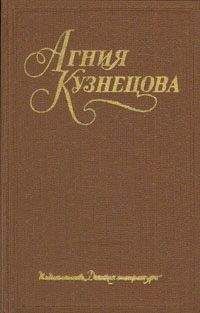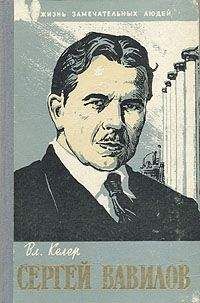— Гиммлер, он при нас вылетел из Варшавы. И Форстер ощутил холодок страха перед силой, которая, казалось ему, была больше той, что в дыму и пыли, ломая сопротивление русских, рвалась к Волге. Он попал домой лишь поздно ночью.
Его встретили жена и дочь.
Форстер при радостных вскриках «ах, фати!» вынимал из чемодана привезённые подарки — маленькие сухие тыквы, именуемые в украинских деревнях «тара-куцьки», глиняные горшочки для молока, деревянные деревенские солонки и ложки, вышитые полотенца, бусы — набор экзотических предметов, к которым питала страсть Мария, учившаяся в художественной школе. Всё это тут же было присоединено к раритетам — тибетским вышивкам, пёстрым албанским туфлям, цветным малайским цыновкам.
— А письмо? — спросила Мария, когда отец вновь нагнулся над чемоданом.
— Письма нет, я не видел твоего студента.
— Разве Бах не в штабе? — спросила она.
— Нет, твой студент стал танкистом.
— Господи, представляю себе Петера на танке. Как же это, под конец войны?..
Именно в это время Форстера позвали к телефону. Негромкий голос предупредил, что за полковником утром заедут, просили подготовиться к докладу. Форстер понял, кому предстоит докладывать: с ним говорил старший сотрудник адъютантуры фюрера.
— Что с тобой? — спросила жена, заметив на раскрасневшемся после семейной встречи лице мужа иное, странное волнение.
Он молча обнял её.
— Большой день в моей жизни, — тихо сказал он.
Она подумала, что лучше бы большой день наступил не сегодня, но ничего не сказала.
Произошла странная вещь: дважды за сутки Форстеру пришлось столкнуться с человеком, которого он до этого дня ни разу близко не видел за все годы своей жизни. Подойдя к длинному, растянувшемуся на квартал двухэтажному зданию рейхсканцелярии, он обострившимся от волнения и любопытства взором отмечал подробности, о которых расскажет жене и дочери, — чёрную небольшую доску с золотым орлом у входа, сосчитал высокие ступени, измерил площадь розового ковра, покрывающего, как ему показалось, три четверти гектара, коснулся ладонью серой, под мрамор, стены, сравнил бронзовые бра с бесчисленными ветвями деревьев, оглядел замерших у внутренней арки неподвижных, литых из стали, часовых в светлых серо-голубых мундирах с чёрными обшлагами. За открытым окном, ведущим на улицу, послышалась короткая, словно приглушённые выстрелы, команда, звякание оружия, чёткие негромкие приветствия.
Форстер увидел, как плавно остановился у подъезда огромный, блещущий лаком и стеклом автомобиль, тот самый, что нёсся накануне по бетонным плитам Темпельгофа, а две открытые машины, шедшие следом, почти не замедляя скорости, развернулись, и с привычной ловкостью на ходу из них выскочили чины охраны.
Через минуту мимо него под арку, ведущую к кабинету Гитлера, быстрым шагом прошёл, улыбаясь пухлым ртом, рейхсфюрер СС в высокой массивной фуражке, в развевающемся сером плаще.
Форстер ожидал вызова, сидя в кресле, ощущая непроходящее, всё нарастающее волнение. Минутами ему казалось, что у него вот-вот начнётся сердечный припадок с удушьем и тупой, тяжёлой болью под лопаткой. Его угнетали тишина и безразличное спокойствие секретарей — они были совершенно равнодушны к полковнику, прибывшему ночью из-под Сталинграда.
В таком ожидании прошло около часа.
Внезапно, по какому-то неуловимому движению в приёмной, Форстер понял, что Гитлер остался один в кабинете. Он вынул платок и тщательно обтёр ставшие влажными ладони. Казалось, с секунды на секунду его могут позвать. Но после этого прошло ещё двадцать минут тяжкого напряжения. Форстер хотел подготовиться к возможным вопросам, но навязчивая мысль мешала ему, он в тысячный раз в уме репетировал удар каблука о каблук, слова приветствия. «Точно шестнадцатилетний кадет перед первым парадом», — подумал он и провёл ладонью по волосам. Затем он подумал, не забыли ли о нём, он просидит так шесть часов, служащие начнут улыбаться, и кто-нибудь скажет ему:
— Пожалуй, вам нет смысла ждать, получена радиограмма, что фюрер прилетел в Берхтесгаден.
И ему захотелось позвонить домой, запретить домашним разглашать среди знакомых новость.
Зажёгся рубиновый глазок на мраморном пульте.
— Полковник Форстер, — произнёс чей-то тихий и словно укоризненный голос.
Форстер встал, вдруг задохнулся, хотел пойти медленным шагом, чтобы восстановить дыхание; он не видел человека, подводившего его к двери кабинета, он уже ничего не видел, кроме блестящей высокой дубовой двери.
— Быстрей, — шёпотом окликнул его тот же голос, но сейчас он был грубый, властный.
Дверь открылась, и, конечно, всё произошло не так, как рисовал себе Форстер.
Он думал сразу же после приветствия быстрым шагом подойти к письменному столу, а получилось, что он остановился у двери, а Гитлер сам шёл к нему из глубины кабинета, бесшумно ступая по толстому ковру. Сперва он казался необычайно похожим на тысячи объединённых однообразием изображений на картинах, фотографиях, почтовых марках, и Форстер на миг ощутил себя не зрителем, а персонажем фильма, попавшим на экран при дневном освещении, — из глубины кадра бесшумно наплывала на него знакомая фигура. Но чем ближе Гитлер подходил, тем меньше лицо его казалось похожим на миллионы изображений, оно было живым, бледным, с жёлтыми большими зубами. Форстер увидел его влажные голубоватые глаза, редкие ресницы и тёмные отёчные дуги под глазами.
Форстеру показалось, что большие малокровные губы фюрера усмехнулись, словно он понял нынешнее трепетное состояние старого полковника и вспомнил его прежние антигосударственные мысли.
— Фронтовой воздух, видимо, пошёл вам на пользу, — сказал Гитлер
Форстера поразила обыденность интонаций негромкого голоса; казалось, что из этого рта мог исходить лишь острый, как осколки бутылки, фанатичный, зловещий призыв, гипнотизирующий двадцать тысяч участников митинга в Спорт-Паласе.
— Да, мой фюрер, я прекрасно себя чувствую, — ответил Форстер, и голос его задрожал от покорного волнения, а внутри словно эхо повторило: «Мой фюрер, мой фюрер, мой, мой».
Но, конечно, он сказал сущую неправду. В самолёте он себя плохо чувствовал и, боясь припадка, принял таблетку нитроглицерина. А дома он не спал до утра, мучимый одышкой и сердечными перебоями, десятки раз смотрел на часы, подходил к окну, вслушиваясь, не пришёл ли за ним автомобиль.
— Паулюс ночью просил у меня отсрочки на пять дней. А за час до этого мне доложили жалобу Рихтгоффена, он хочет начать, хотя его подготовка сложней, а Паулюс настаивает на отсрочке. Я недоволен им.
Форстер вспомнил о том, что командующий воздушными силами обещал просить у Гитлера более длительный срок на подготовку операции, — очевидно, изменив слову, он пытался повредить Паулюсу. Но Форстер уж понимал, что говорить в этом кабинете правду ему не дано, да и есть ли такие смельчаки...
— Да, мой фюрер, подготовка пехоты куда проще, — сказал он.
— Пойдёмте к карте... — негромко произнес Гитлер. Он шёл впереди Форстера, опустив руки, сутуля спину, его голова была выстрижена по солдатской манере, и анемичная полоса бледной, голой кожи с пятнами после недавней стрижки шла от шеи к затылку и мясистым ушам. В этот миг естественное равенство установилось между ними — два человека молча шагали по одному ковру. Это чувство было противоположно тому, что испытал Форстер, когда на параде в честь победы над Францией увидел фюрера Германии. Он шагал тогда вот этой же быстрой походкой не властителя, а нервозного обывателя, — и, отстав от него, шли десятки фельдмаршалов и генералов, в касках и нарядных фуражках, шли той нестройной, толкающейся толпой властительных людей, которым не обязателен железный порядок военного парада. Казалось, пропасть отделяет Гитлера от всех окружавших его, не метры, а километры. А тут-плечо его касалось плеча Форстера.
В центре очень длинного стола, стоявшего параллельно окнам, была разложена карта Восточного фронта, вправо от нее лежала другая. Форстер по большому количеству синей и жёлтой краски понял, что это Средиземноморский театр Киренаика, Египет; он мельком заметил отмеченные карандашом Мерса-Матрух, Дерну, Тобрук. Этот стол, зеркальные высокие двери и окна, глобус, камин с массивной решёткой, это кресло видел он на фотографиях, в журналах, и сейчас он вновь узнавал всё это со странным чувством: то ли он видел это когда-то во сне, то ли сейчас ему снится, что видит он всё это наяву.
— Где вчера был штаб Паулюса? — спросил Гитлер, Форстер указал на карте пункт и сказал:
— Сегодня с утра штаб должен был переместиться в Голубинское, на берег Дона, мой фюрер. Гитлер оперся на стол руками.
— Полковник, я слушаю, — сказал он.
Форстер стал докладывать.
Волнение полковника не уменьшалось, а росло. Гитлер пристально и угрюмо смотрел на карту, нижняя губа его немного отвисла. Форстеру казалось, что все слова об обеспеченности темпов и коэффициентах ввода резервов, видимо, лишь раздражали фюрера своей ненужностью и мешали ему думать Форстер почувствовал себя ребёнком, лепечущим перед рассеянным и озабоченным взрослым. Он в юности представлял себе истинных военных вождей внимательными к новостям войны, ищущими стратегических разгадок не только в докладах генералов, но и в простодушных рассказах солдат;