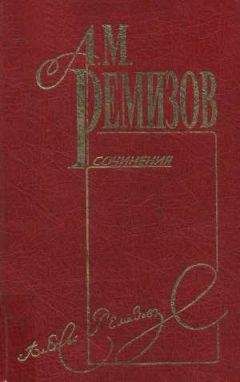Как прожил Иван Федорович революцию, я не знаю. Однажды в самый мор и бедовый изворот проходил я по Кирочной мимо их квартиры, нарочно заглянул в окно и у меня осталось, что в квартире никого, пусто, – значит, подумал я, или попали в чеку или на утёк. Потом уж я узнал, что Григорий Григорьевич помер в Петербурге, как тогда говорили, «от большевиков», т. е. от тифа, а Иван Федорович с тетушкой эвакуировался. А узнал я это много спустя, когда после Кронштадтского восстания и сам «эвакуировался» и очутился за границей.
Ивана Федоровича, грех сказать, за все эти годы я ни разу не вспомнил!
И вот в Париже, лет шесть назад мы встретились на рю Дарю после всенощной. Не знаю, каким я сам кажусь, но Ивана Федоровича я сразу узнал, хотя и полысел он, серый, и никак не скажешь «молодой человек». И мне почему-то вспомнилось: въезд его родоначальника Шпоньки на свой хутор Вытребеньки, как одна из собак «лаяла издали и бегала взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: „посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человек!“» Но сосредоточенность, это бывает от постоянного напряженного чтения, осталась у Ивана Федоровича неизменною: а сколько он на своем веку прочитал книг!
Прежде всего я спросил о дядюшке и тетушке. Тут я и узнал о Григории Григорьевиче: «помер от большевиков», а тетушка Софья Артуровна померла в Константинополе.
У Ивана Федоровича осталась привычка начинать слова с усилием, точно задерживая чёх, но нельзя было сравнить, как овладел он собой! И только при упоминании о тетушке как-то робко оглянулся, или вспомнил ее меткое «болтун».
– Схоронил честь честью, – сказал Иван Федорович, – еще средства были, памятник поставил и в церковь дал на помин; отец Серапион, вы знаете? хороший батюшка, с мощами ездит, он обещал присматривать.
Но какими судьбами попал Иван Федорович в Париж и как в Париже устроился – без тетушки-то и без дядюшки? А об этом я узнаю на следующий день. Иван Федорович отыскал меня, чай пили, за чаем и разговаривали: нет, Иван Федорович куда стал речистее и без всяких клещей.
Из Константинополя перебрался Иван Федорович чудесным образом: если бы не отец Серапион – отец Серапион его и вывез с мощами в Париж. И тут нашел он себе подходящее дело: «похоронный агент».
Меня это нисколько не удивило: «похоронный агент». Да, это действительно подходящее дело! И почему-то вспомнилось, что родоначальник Ивана Федоровича, гоголевский Шпонька – из Могилевской губернии.
У него собралась порядочная клиентура среди эмиграции, и он отдается похоронному делу, как когда-то чтению книг. – А его библиотека? – Все пропало. Но понемногу восстановляет. И прежде всего купил «Мертвые души». А теперь у него берлинский Толстой без сказок, и Достоевский, и Пушкин, и Лермонтов и один том Гончарова «Обломов».
Конечно, вспомнили и прошлое, Москву и нашего учителя Василия Осиповича Ключевского, и как Иван Федорович не мог написать курсового сочинения. Иван Федорович мечтает купить «Курс русской истории». Наступило молчание. Как и прежде, он никак не мог подняться и уйти.
«И как это он с покойниками управляется, – подумал я, – в этих делах рассиживаться не полагается!»
Но выпроваживать его, как бывало, не было духу. Я прибрал стол, вымыл чашки. А Иван Федорович все сидит в молчании. И далеко за полночь, пропустив автобусы и метро, пошел он пешком с Порт-Рояль к себе на Шар-дон-Лягаш.
Один раз и я был у Ивана Федоровича. Это когда уж переехал к нему по соседству на Буало. Он занимал комнату с кухней во дворе; окно в окно соседей. И все у него было аккуратно, как когда-то на Арбате, в Большом Афанасьевском и потом на Кирочной в Петербурге. Теперь у него был и «Курс русской истории» Ключевского и разрозненный Лесков.
Но главное, чем он гордился, это коллекция покойников: писатели, артисты, художники, политические деятели, умершие в эмиграции. И тут же, как приложение, туго набитый конверт с вырезками: «кандидаты».
С кем только Иван Федорович не был знаком: он называл мне такие имена, которые встречал я только в газетах при перечне присутствующих на панихидах – есть такие неизменные, в реальном существовании которых я сомневался.
Иван Федорович был никакой политик, и если бы не тетушка, никогда бы из России не уехал, но эмигрантскую жизнь – точнее, эмигрантскую смерть он принимал близко к сердцу. Если сравнивать его с зарубежными энтузиастами, его можно было бы сравнить с В. С. Куковниковым, только Василий Семенович одержим «образованием», Иван же Федорович – «погребением».
– Знаете, – сказал я, – против всего можно действовать, а тут уж ничего не поделаешь.
– Совершенно верно – ничего.
4
Живя по соседству, я и потом несколько раз встречался с Иваном Федоровичем.
В последний раз перед Пасхой, помню, изумительный день – весна.
– Весна! – «деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зеленела свежею зеленью…»
Но Иван Федорович был озабочен и не обращал внимания. И когда я вспомнил ему из его Могилевской губернии, я заметил, что и эти весенние Гоголевские строки не тронули его. Должно быть, если бы и классическую «косьбу» помянул, которая «доставляла неизъяснимое наслаждение кроткой душе» его родоначальника –
Казалось бы, что чем больше помирают, тем для него было выгоднее, такое уж «мэтье»! – за переговоры с похоронным бюро он получал процент – средство для существования. Но это было для него совсем неважно, он был мастером своего дела: как-нибудь похоронить, это не в его правилах. А кроме того, для своих надо было постараться: чтобы и хорошо и недорого.
Иван Федорович жаловался, что несмотря на кризис и всеобщее разорение, а для русских обнищание, похоронные цены нисколько не уменьшились, как и лекарства в аптеках, а сообразно с общим положением стали прямо недоступны. И вот он изыскивает всякие средства, чтобы найти возможность урегулировать «столь существенно-важное дело».
– Положение катастрофическое! Последнее, что остается от человека – его похороны, и они должны быть справлены не как-нибудь, чтобы только с рук сбыть: жил-жил человек, а пришел конец, и вроде как свезут тебя на свалку!
Иван Федорович предсказывал, что если сейчас же чего-то не сделать, дело обернется так, что никакое похоронное общество не согласилось хоронить русского, и вся эмиграция очутится в критическом положении:
– Негде похоронить – не на что.
Иван Федорович чуть ли не каждый день бывает на похоронах, осмотрел все кладбища, знает все парижские похоронные бюро и вступил в переговоры. Он надеется, что после Святой ему удастся кое-что осуществить.
– И тогда дело будет спасено.
Какая уж тут «косьба»!
И, глядя вслед Ивану Федоровичу, давно похороненному дядюшкой и тетушкой, я не мог остановить своих мыслей, продолжая свою весеннюю – Гоголевскую память:
«…единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер – и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: красная степь синеет и горит цветами: перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то тут, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вокруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется; сумерки сереют…»
А теперь конец июля. Опустевающий Париж. Мне это на руку, не так страшно переходить улицы. У остановки автобуса около Эглиз д’Отой я заметил Ивана Федоровича.
Не могу сказать, но какая-то в нем произошла перемена. Он меня еще не видит. Он куда-то смотрит – но с какой уверенностью – это совсем не Иван Федорович!
Я его окликнул – и он мне очень обрадовался, точно меня ему и нужно было. Я подумал, что начнет свое – о покойниках, о том магическом средстве, над которым раздумывал, спасая русское похоронное дело.
Но он ни словом не обмолвился о похоронах. Он взял меня за пуговицу, и что-то трогательное и просительное зазвучало в его голосе:
– Александр Александрович, я вас прошу, не откажите: завтрашний день, – и он передохнул, волнуясь, – позавтракать со мной!
Я стал отказываться. Мне было совсем не до завтраков: это нарушало мой опыт питаться сыром и помидорами, что не требовало никакой кухни и стоило не очень дорого, а кроме того, идти в ресторан, где летом такой ужасный воздух – и не могу я смотреть, как едят мясо.
– Очень прошу, – повторил Иван Федорович, – вы единственный; Василий Осипович! наш учитель, – помните? Вы меня обидите.
И мне ничего не оставалось, как согласиться.
Иван Федорович назвал один из лучших ресторанов на рю де Риволи.