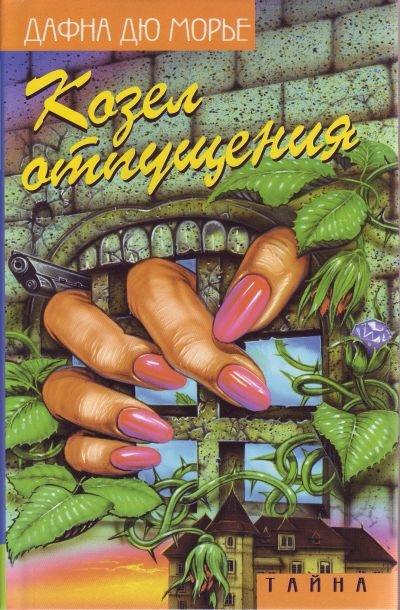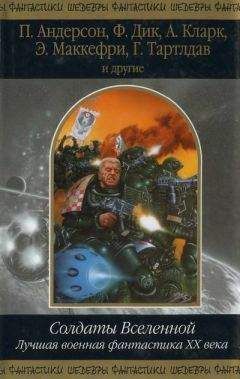как бы делает ее своей сообщницей.
— Если вы подозреваете, что я заключил этот контракт, полагая, что Франсуаза умрет, то вы ошибаетесь, Рене, — сказал я.
Она облегченно вздохнула.
— Я рада, — сказала она. — Сегодня вечером в больничной часовне я почувствовала внезапно, как ужасно то, что было между нами. Неделю назад я не покинула бы Сен-Жиль, но теперь… — Она повернулась и стала подниматься по лестнице. — …Теперь я знаю, что не могу больше здесь оставаться. Я должна уехать отсюда — это для нас, для Поля и меня, единственная надежда на будущее.
Я глядел, как она удаляется по коридору, и спрашивал себя: действительно ли смерть Франсуазы заставила ее устыдиться или моя холодность и равнодушие к ее женским чарам убили ее вожделение?
Я погасил свет и поднялся по лестнице в темноте. Мне подумалось, что мое предложение им двоим, Полю и Рене, исходило не из моих уст — того одинокого, замкнутого меня из прежней жизни — и не из уст Жана де Ге, в чью тень я превратился; это было делом третьего, того, кто ни Жан, ни Джон, кто стал сплавом нас обоих и, не имея телесного обличья — порождение не мысли, а интуиции, — принес нам обоим свободу.
Мари-Ноэль попросила зайти к ней перед сном, и, пройдя сквозь двустворчатую дверь, я поднялся в башенку по винтовой лестнице и переступил порог, думая, что девочка еще не разделась и молится у своего самодельного аналоя. Но длинный день взял наконец свое. Мари-Ноэль была в постели. Она спала. В ногах кровати стояли две зажженные свечи, между ними — утенок. В руках девочки, сложенных на груди, спал целлулоидный младенец с проломленной головой, а к изголовью была приколота бумажка, где я прочел следующие слова: «Здесь лежат бренные останки Мари-Ноэль де Ге, скончавшейся в 1956 году от Рождества Христова, чья вера в Святую Деву принесла мир и спасение смиренной деревне Сен-Жиль». Да, я ошибался, когда подумал, будто больничная часовня не затронула ее воображения.
Я задул свечи и, оставив окно открытым, захлопнул ставни. Затем спустился по башенной лесенке и прошел на противоположную сторону замка — в другую, большую башню. Здесь не горели свечи, светилась лишь одна лампа возле постели, и лежавшая на подушках женщина, в отличие от девочки, не спала. С бледного измученного лица на меня выжидательно смотрели ее запавшие глаза.
— Я думала, ты никогда не придешь, — сказала графиня.
Я подтащил от печки кресло к самой кровати. Сел и протянул ей руку. Она крепко ее сжала.
— Я отослала Шарлотту к ней в комнату, — сказала графиня. — Я сказала ей: вы мне не нужны, сегодня обо мне позаботится господин граф. Ты ведь хотел, чтобы я так сказала, верно?
— Да, maman, — ответил я.
Она сильней стиснула мне руку; я знал, что она будет держать ее всю ночь как защиту против мрака и мне нельзя шевелиться, нельзя забрать ее, иначе связь между нами ослабнет и смысл моего присутствия здесь будет потерян.
— Я лежала и думала, — сказала maman. — Через несколько дней, когда все останется позади, я переберусь в мою старую комнату внизу. Мне там будет удобнее приглядывать за домом.
— Как вам угодно, — ответил я.
— Лежа здесь, я постепенно теряю память, — сказала графиня. — Не знаю, где я — в настоящем или в прошлом. И у меня бывают кошмары.
Позолоченные часы на столике возле кровати громко тикали, маятник под стеклянным колпаком неторопливо качался взад-вперед, и казалось, что минуты идут очень медленно.
— Вчера ночью, — сказала графиня, — мне приснилось, что тебя нет в замке. Ты снова воевал в рядах Сопротивления, и я читала во сне записку, которую ты сумел мне передать в тот день, когда застрелили Мориса Дюваля. Я перечитывала ее раз за разом, пока мне не стало казаться, что у меня лопнет голова. Но тут ты дал мне морфий, и сон исчез.
В Вилларе у Белы стояли небольшие часы в кожаном футляре, светящиеся стрелки четко выделялись на темном циферблате, а тикали они так быстро и тихо, словно билось живое человеческое сердце.
— Если вам приснится что-нибудь сегодня, — сказал я, — не бойтесь. Я буду рядом.
Я наклонился вперед и обожженной рукой погасил свет. И сразу же со всех сторон надвинулись тени и поглотили меня. Мною завладело отчаяние, прячущееся в темноте, а графиня принялась говорить в полусне, который я не мог с ней разделить, и только слушал ее бормотание под тиканье часов. Иногда она громко вскрикивала и проклинала кого-то, иногда принималась молиться, один раз разразилась неудержимым смехом, но ни разу за то время, что ее преследовали бессвязные видения, не попросила она о помощи и ни разу не разжала пальцев на моей руке. Когда вскоре после пяти часов утра графиня наконец заснула и я, наклонившись над ней, всмотрелся в ее лицо, я не увидел больше на нем маски, скрывающей месяцы и годы страданий. Прежде измученное, настороженное, оно показалось мне умиротворенным, расслабившимся и, как ни странно, красивым, даже не старым.
Я знал, что теперь maman будет спать и я могу ее оставить. Я встал с кресла, вышел из комнаты, спустился через безмолвный дом в гостиную и, открыв стеклянные двери, вышел на террасу. Я пересек ров и прошел под каштанами в парк, к каменной Охотнице, стоящей в центре расходящихся от нее дорожек. Воздух был холодный и прозрачный, как всегда перед рассветом, и небо, потерявшее глубокую ночную черноту, посерело, словно отступая перед натиском дня: звезды побледнели, отодвинулись, на западе небольшая стайка Плеяд уже садилась за темными деревьями. Отсюда, от статуи на вершине холма, мне был виден замок, и деревня за ним, и церковка, пронзающая шпилем небо, и кучка домов у церкви — они казались одной крестьянской усадьбой, — и поднимающиеся к востоку поля, и лес за ними; все вместе делало Сен-Жиль единым целым, состоящим из замка, церкви и деревни.
Я сидел у подножия статуи и ждал рассвета, и по мере того, как небо бледнело и вокруг становилось светлей, замок и деревня приобретали объем и четкий контур, сама земля, казалось, тоже облекалась плотью, от нее исходил влажный острый запах, ночная влага и утренняя роса будто слились воедино, чтобы сделать почву плодородной. Деревья окутывал белый туман, теплый и рыхлый; вскоре он исчезнет, обнажив золотисто-багряные кроны. И вот, словно по волшебству, не успело взойти солнце над вершиной холма за деревней, как деревня проснулась. Казалось, прошла одна