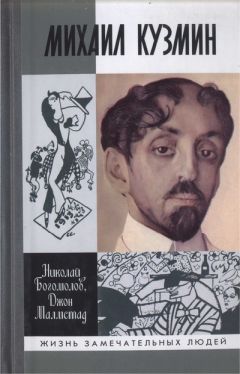Мы были приставлены к домашним работам и помогали женщинам, но нам очень скоро наскучило их любопытство и назойливость. Так как дикаркам всего удивительнее казался цвет нашей кожи, то Жак придумал средство уничтожить эту приманку для черных дам. А именно: мы стали каждую ночь натираться сажей из очагов, так что в конце концов приблизились по цвету кожи к окраске туземных тел. Женщины сначала нас не узнали, потом целый день приходили глазеть на наше превращение, щелкать языком и качать головою, но постепенно привыкли, потеряли к нам интерес и оставили нас в покое.
Так прошло много недель и месяцев; мы потеряли всякую надежду вернуться на родину, которая даже во сне перестала нам представляться. Нас не выпускали за деревню, так что мы лишены были возможности даже бродить по берегу моря, отделявшего нас от далекой отчизны; наше рабство, казалось, никогда не прекратится, как вдруг странный случай вывел нас совершенно из тягостного плена и засветил снова путеводную звезду скитаний. Впрочем, странной в этом случае была только его неожиданность.
Однажды, в особенно жаркий день, когда все жители разбрелись по тенистым местам, женщины спали в шалашах, забыв о своих сварах, и только голые ребятишки возились в песке да я с Жаком, перестав молоть зерна, тихонько вспоминали о Европе, — раздался далекий выстрел, и через некоторое время в деревню с берега прибежали два туземца, зажав уши и крича что-то страшным голосом. На их крики стали собираться чернокожие, громко обсуждая необычайное явление. Женщины вышли из домов и тревожно прислушивались к говору мужчин; только дети спокойно продолжали играть, сыпя песок друг другу на голову. С каким-то тайным трепетом мы следили, как вооружались дикари, очевидно готовясь к битве; жены помогали им, подавая то копье, то стрелу, то кожаный щит. Когда воины удалились нестройной толпой, оставшиеся дома дикарки собрались в кучу посреди деревни, бормоча заклинания, изредка прерываемые длинным и настойчивым криком, затем все разом повергались ниц и молча молились, потом вскакивали, кружились, бормотали, испускали вопль и снова падали. Так продолжалось до тех пор, пока все приближавшиеся выстрелы не сделались совсем близкими и беспорядочной массой не хлынули обратно чернокожие, преследуемые небольшой кучкой белых в широких шляпах, с мушкетами и пистолетами. Дойдя до середины деревни, европейцы дали залп, и все дикари, мужчины и женщины, разом простерлись на землю, моля о пощаде. Тогда предводитель пришельцев дал знак остальным, и они, подняв живых и нераненых, связали им руки и отвели в сторону. Кто может представить себе мое удивление, когда я, выглянув из-за скрывавшего нас куста, узнал в капитане Джэка Брайта, когда-то виденного мною в Бейруте; большая черная борода, шрам через щеку, волосатые кисти рук, неподвижный взгляд и громкий, резкий голос не давали возможности сомневаться, что это он.
Тогда мы вышли из засады, громко крича, что мы приветствуем братьев и соотечественников.
Пришельцы казались удивленными несоответствием нашего заявления с нашим видом и ждали, когда мы приблизимся.
И действительно, наша внешность могла показаться странной: нагие, вымазанные по всему телу сажей, со всклоченными волосами, мы подвигались неровною походкой, протянув руки вперед и крича одновременно на двух различных языках. Но Брайт, все время пристально на нас глядевший, быстро подошел к нам, взял нас за руки и, обращаясь к товарищам, сказал:
— Это верно. Я знаю этих джентльменов и ручаюсь за правдивость их слов. Вероятно, только большое несчастье, о котором не время расспрашивать, привело их к такому необычайному и неожиданному состоянию. Мы должны сделать все, что можем, чтобы помочь нашим братьям и успокоить их.
Затем он приказал дать нам платье и отвести на борт судна.
Нам ни разу не приходило в голову, покуда мы жили среди черных, что мы наги, и только теперь, встретившись снова с европейцами, почувствовали мы стыд и смущение за свою наготу. К берегу нас провел мальчик-юнга, так как капитан еще решал с советниками судьбу черных жителей, среди которых мы жили столько времени. Нам дали одежду, мы отмыли сажу, выпили виски, поели и спокойно стали ждать возвращения Брайта. Все произошедшее было так разительно, что почти лишило нас способности удивляться и радоваться.
К вечеру пригнали на берег пленных туземцев, связанных длинной веревкою; они молчали, глядя задумчиво и покорно, как скот; разместили их в трюме, где было слишком мало места для всех, так что они лежали почти в два ряда, один на другом.
Отдав последние распоряжения, капитан посетил меня и Жака в отведенной нам каюте, спросил, куда мы хотели плыть, намекнув, что он правит свой корабль на родину в Англию, где должен быть по важному делу. Я сказал, что я не умоляю его ни о чем лучшем, как довезти меня до Портсмута, за что я был бы ему благодарен до самой смерти. Жак был грустен и молчалив и на вопрос, неужели его не веселит мысль вернуться на родину, ответил печально, что в Марселе у него нет никого близкого, и вообще нигде нет человека, к которому он был бы более привязан, нежели ко мне. Я обнял его и предложил остаться в Портсмуте, рассудив, что даже в случае, если бы мистер Фай отказался дать приют Жаку, то моему другу будет все равно, где заниматься тем, к чему он способен, в английском или французском порту. Дюфур сразу повеселел, и к нему вернулась прежняя ясная и невинная шутливость.
Мы решительно не знали, чем обязаны милости и ласковости Брайта, который вовсе не производил впечатления человека, любезного к первому встречному. Его обращение с нами не оставляло желать ничего лучшего, так он был внимателен и даже предупредителен. Когда случайно он оставался со мной вдвоем, он все время рассказывал о своих путешествиях, в которых он посетил Индию, Китай, Вейлан и другие сказочные стороны. Его слова, простые и суховатые, рисовали волшебные картины дальних земель, их жителей и необычайного знания мудрецов. При этих повествованиях голос Джэка делался глуше, таинственнее и звучал, как большой колокол из дали густого леса. Об одном только молчал наш капитан — что он делал в этих плаваниях, что он делал в Бейруте, как попал на дикий берег, откуда спас меня с Жаком, куда именно и зачем он едет теперь и кто он. Об этом он хранил молчание, и мы не приставали с расспросами. Была еще одна странность, о которой мы вспомнили уже впоследствии, а именно: всегда, среди какого бы то ни было оживленного или важного разговора, едва било одиннадцать часов, наш хозяин удалялся к себе в каюту, иногда даже не окончив начатой фразы.
Мы приписывали это аккуратности, столь свойственной моим соотечественникам. Но случай показал нам, что это была далеко не одна аккуратность, а нечто более странное, важное и непонятное.
Однажды вечером, когда Джэк, по обыкновению, удалился, прервав интереснейший рассказ, мы с Жаком, подождав некоторое время, пошли за хозяином и, остановясь около двери в его комнату, стали прислушиваться. Слышно ничего не было, но, приложа глаз к щелке, мы увидели следующую картину. Стены каюты были увешаны странными изображениями зодиакальных знаков, человека с раскрытою грудью, где пылало горящее сердце, какими-то чертежами и надписями на непонятном языке. Сам Брайт в шляпе сидел за большою книгой, неподвижно глядя на синий огонь небольшого треножника. Перед ним стоял совершенно обнаженный мальчик лет 13-ти, раскинув руки и смотря на то же пламя. Я не узнал сначала нашего юнгу, никогда, впрочем, не обращал я на него внимания. Он был бледен и худ, можно было пересчитать все ребра на боках, лицо, довольно обыкновенное, поражало прозрачною белизною, которая казалась еще сильнее от яркого, как вино, рта. Но меня поразили глаза мальчика: густосапфирные, очень узкие, неподвижные, как бы незрячие, они сразу пронзили меня воспоминанием о Стефании, вся история которой, забытая было мною, всплыла до страшного ясно в моем мозгу.
Юнге становилось, очевидно, холодно, потому что он дрожал всем телом все сильнее, покуда Брайт нараспев читал из книги, смотря на синий огонь. Наконец он бросил на треножник какого-то снадобья, отчего слабое пламя вдруг вытянулось в длинный язык ярко-желтого цвета. Джэк перестал читать, вперив взор в угол комнаты, находившийся вне поля нашего зрения, мальчик же, перестав трепетать, застыл с раскинутыми руками, из которых без всякой видимой причины потекла тонкими струйками алая кровь.
Мы смотрели как околдованные, но вот пламя упало снова до синего огонька, юнга зашатался, готовый упасть. Джэк, побледнев, шумно перевернул страницу книги, потом взял длинный кинжал и направился к голому отроку. Не будучи в состоянии сдержать свое волнение, я закричал в ужасе:
— Остановитесь, остановитесь, Джэк Брайт!
Я помню, что с моим криком слился другой нечеловеческий вопль, но больше ничего не удержал в памяти, так как упал на руки Жака, лишившись чувств. На следующее утро вошел к нам капитан, более бледный, чем всегда, но спокойный и сдержанный. Поговорив немного, он заметил: