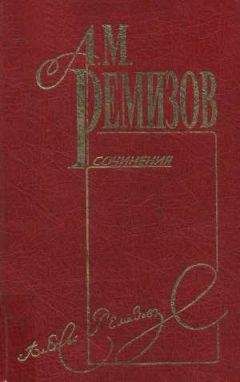«Человек» – я говорю о человеческом мире – пропадает именно от своей тупой «разумности» и холодной «расчетливости», этот самообманывающийся непогрешимой «математикой» игрок! А что это так, не надо и смотреть, чтобы почувствовать, что творится вокруг, какое бездонное горе разливается по миру в этом мире заочных бумажных приговоров, теоретических программ, без слуха к живой трепещущей жизни. Шестовское «безумие» – «апофеоз беспочвенности» был вызов именно этой мировой бездушной машинности, этому подлинно бесчувственному идолу, «логилизирующему сухарю», для которого горячее человеческое сердце с его безграничной волей и чудесами – сапогом! – : «дважды два четыре!» А ведь за каждый вызов по установившимся законам жизни («природа» богаче, глубже и разнообразнее, но как-то так повелось и одно из случайных стало нормой!), за каждое наперекор какому-то «ровнению» – так это не проходит. Жизнь ему и показала: годы высиживался он в Коппе под Женевой, а тут по три часа в день шагал в Булонском лесу. «По-нашему не согласен, так вот же, поди посиди или погуляй, посмотрим!».
Мне с моим взбалмошным миром без конца и без начала, Шестов пришелся на руку, легко и свободно я мог отводить свою душу на всех путях ее «безобразия». И моим «фантазиям» Шестов верил, доверчиво принимая и самое «несообразное». И никогда я не скажу, говоря «никому нет дела!», чтобы хоть когда-нибудь при этой отчаянной мысли я назвал себе Шестова. Как один из старших моих братьев, Шестов учил меня житейской мудрости на манер Гофмановского кота Мурра: воображаете, какая выходила ерунда! И еще потому мне было легко с ним и свободно – вот кто не деревяшка, не эти безулыбные, лишенные юмора трезвые люди, среди которых дышать нечем!
«Беспросветно умен», так отозвался о Шестове Розанов, а я скажу и «бездонно сердечен», а это тоже дар: чувствовать без слов и решать без «расчета».
«Лев Исаакович, ты «понимаешь», я поднялся по этой веревке на страшную высоту, крепко вцепился, под ногами пропасть, заглянуть вниз… ветер меня разносит и мой голос сливается с его щемящей бурей, и какие-то остекленелые надутые куклы, они стояли рядами в этом вихревом пространстве, бездушные, они караулили мое подрыгивание на веревке, но я поднимался выше. Ты на путях своего духа в этот миг говорил с Сократом. Я провожал тебя до предела… А эту горстку земли я бросаю тебе в могилу».
Китайская казнь: осужденного разрезают на тысячу мелких кусков.
Слово принадлежит автору идиллии «Учитель музыки», героем которой является Александр Александрович Корнетов, его знакомые и приятели.
Прошу не путать никого с Александром Александровичем Корнетовым, ни из его знакомых и приятелей, это я сам.
Имя Корнетову дано было еще в Петербурге в честь Александра Александровича Блока, а фамилия «Корнетов» не столько инструментальная по профессии учителя музыки, сколько кавалерийская: заветная мечта Александра Александровича, которую он неоднократно высказывал, – «быть бы мне лихим корнетом, ездить на коне, как у Толстого в «Войне и мире», выделывать всякие ухарские штуки!» – фамилия Корнетов дана по контрасту с его небоевым образом жизни.
Я – и Корнетов и Полетаев и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок и Куковников и Птицин и Петушков и Пытко-Пытковский и Курятников и, наконец, сам авантюристический африканский доктор. Все я и без меня никого нет. Да иначе и невозможно: писатель описывает только свой мир и ничей другой, и этот мир – его чувства и его страсть.
Или, как выразился бы профессор математики Сушилов, тоже один из героев идиллии: «Корнетов и его знакомые – мои эманации, расчленение моей личности на несколько отражений моего духа».
Что-нибудь внешнее, постороннее, что называется «не-я», «другой», для писателя только матерьял и, если он чувствует в нем себя, он его примет – «заживет» в нем. Так совершилось превращение Толстого в Наташу Ростову, в Анну Каренину, в Катюшу Маслову; а Тургенева – в Лизу, в Ирину, в Елену; а Лескова – в Лизу Бахареву. И точнее следовало бы сказать не превращение, а переодевание – очень яркий пример: переодевание Толстого в мужиков во «Власти тьмы».
Писатель подбирает матерьял по себе и через этот матерьял познает себя. Трагедия Гоголя и заключалась в том, что ад – I часть «Мертвых душ» был в нем, а с чистилищем – II-ой частью «Мертвых душ» он никак не мог справиться: и что мог он сказать доброго о человеке, когда по его собственному признанию в себе не находил добра, а что было доброго – жалость («Шинель») и любовь («Старосветские помещики») – сгорело; а так как «Мертвые души» – дело жизни Гоголя, то ему ничего не осталось, как обречь себя на смерть.
«…и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас, как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди – я-то сам один и есть».
Эти слова из «Сна смешного человека» – подлинно сна Гоголя.
Литературное произведение или «изящное», как говорили в старину, противополагая «статьям», – ключ для познания автора: по роману, повести и рассказу можно больше сказать о авторе, чем из самой подробнейшей его биографии, написанной кем-то, а ведь для писателя это очевидно, что кроме как о себе, о своем мире чувств, мыслей и слов никто никогда еще не мог написать ни одной путной строчки, т. е. чтобы было живо и кровно, а не пусто, в одних бледных словах.
«Всякий не может судить, как по себе», – говорит Достоевский на жаргоне Кириллова.
Кому же, как не Достоевскому, знать, какая цена «миру» и что из этого «не-я» делает писатель. Достоевский встречался с женщинами не высокой духовной ценности, но в нем самом была «жертвенность» и он наделил ею, как высшим идеальным признаком, духовно-сомнительный матерьял своих встреч. Так вышли живые и кровные, как будто в природе существующие. Соня, Наташа, Катерина Ивановна. У Лескова – я беру первого из второго круга писателей – душа мятежная и мятежная Лиза Бахарева («Некуда») живая, но «жертвенности» у Лескова не было и его «жертвенная» Александра Ивановна Синтянина («На ножах») – только в словах.
Литературные произведения для писателя все, но не следует искать в них биографическую последовательность, и фактов из его «живой» жизни.
Самое сокровенное у Достоевского: тайна «жертвы» – наслаждение мучением – этот «красненький паучок» Ставрогина и Лиза Хохлакова, которой сочувствует мыслью Иван Карамазов и сердцем Алеша – весь Достоевский. Лиза читала в какой-то книге, как распяли четырехлетнего мальчика, сначала обрезали пальцы, а потом распяли, прибив гвоздями к стене, мальчик умер через четыре часа: «я иногда думаю, что это я сама распяла; он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть: я очень люблю ананасный компот».
Лизы Хохлаковой в природе не существует, эта Лиза больше, чем в природе, она в самой завязи «страдного» мира и вот вышла из измученной души Достоевского, и в «живой» жизни Достоевского было это чувство, но «фактически» ничего подобного не было.
И до чего явственно выступает это «фактическое» несовпадение, я могу показать на моей идиллии.
А. А. Корнетов – учитель музыки, но какой же я музыкант? Правда, я учился на корнет-а-пистоне у Александра Александровича Скворцова. А. А. Скворцов горбатый и кругом одинокий, был на редкость добродушный и не столько учил меня музыке, сколько философствовал, а учил он меня бесплатно; к концу лета мне пришлось бросить ученье и не потому, что охоты не стало, а из-за инструмента: купил я его на Сухаревке, прельстившись дешевкой, двадцать копеек, и сначала дудел ничего, а потом пистоны стали забухать и как нарочно на самых интересных местах, или таким выпалит дудом – А. А. Скворцов жил в одном из переулков знаменитой Соболевки, ближе к Грачевке, люди там ко всему привычные, и то жаловались. Вот и вся моя музыка. Правда, у меня есть камертон, вывезенный неизвестно зачем из Петербурга в августе 1921-го года и прошедший со мной через Нарвский карантин. Правда и то, что у меня есть повадка «учить» – давать советы и не только в литературных, а и в житейских затруднениях. В литературе еще кое в чем могу принести пользу по своим «грехам» – долголетнему ремесленному опыту, но в жизни – что я могу в жизни среди всей этой гоголевской чепухи, сумятицы, бестолочи и «слепого тумана», где поистине «какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски, без смысла, без толку смешал вместе» или, выражаясь словами профессора математики Сушилова, где «сцепление образов и суждений происходит по совершенно неожиданным бессмысленным ассоциациям, а бессодержательные определения прикрывают настоящий мотив действия».