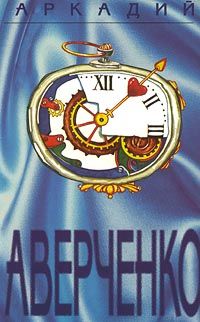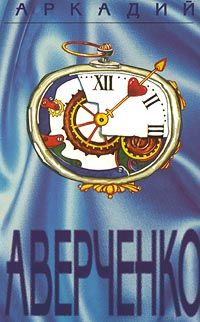— Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «Мне, — говорит, — нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом, как только приду — уже спрашивать начала: «Чего вы все молчите?» — «Да о чем же говорить?» — «Как! Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» — «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». — «Мне, — говорит, — страшно с вами. Вы все молчите…» — «Такой уж, — говорю, — я есть — таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сиди-ит, разливается! Я, говорит, видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения? И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно… А она все к нему так и тянется, так и тянется… Мне-то что… сижу — молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться… Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, — говорит, — чего тут надо?» — «Как чего? Марью Петровну хочу видеть». — «Пошел вон! — говорит мне этот проклятый юнкеришка. — А то я, — говорит, — тебя так тресну, если будешь еще шататься». Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери: «Вы мне, — говорит, — не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница…» Дура! Взял я да ушел.
Я сонно засмеялся и сказал:
— Да-а… История! Ну, спокойной ночи.
— Приятных снов! Вообще, у мужчины хотя логика есть по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет… Дело прошлое — можно признаться — был у меня роман с одной замужней женщиной… И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, «что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюся»… Три дня она меня только и вытерпела… Взмолилась: «Господи, Создатель! — говорит. — Пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, — говорит, — со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, — говорит, — и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях… Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.
— Действительно, — поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. — Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.
— Ну? Пора на боковую.
Он неторопливо снял второй сапог и сказал:
— А один раз даже незнакомый человек на меня освирепел… Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке, сижу молчу…
Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.
— …Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» — «Да». — «То есть как — да?»…
— Хррр-пффф!
— Гм! Что он, заснул, что ли? Спит… Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил… Как только ляжет — сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать… Со мной-то не наговоришься — хе-хе!
Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:
— Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.
Он недоумевающе повернулся ко мне:
— Почему?
— Да вы без умолку рассказываете.
— Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди… Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» — «Грешен». — «А чем?» — «Мало ли!» — «А все-таки?» — «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец…
— Слушайте! — сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. — Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать — тем хуже.
— Почему? — спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. — Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор… Зовет меня к себе… Настроение у него, очевидно, было самое хорошее… «Ну, что, — спрашивает, — новенького?» — «Ничего». — «Как ничего?» — «Да так — ничего!» — «То есть позвольте… Как это вы так мне…»
— Я сплю! — злобно закричал я. — Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!
Он развязал галстук.
— Спокойной ночи. «…Как это вы так мне отвечаете, — говорит, — ничего! Это невежливо!» — «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» — «Нет, — говорит, — все имеет свои границы… можно, — говорит, — быть неразговорчивым, но…»
Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.
* * *
Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.
Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:
— «Я, — говорит, — буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного, безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите?» — «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»
IНадгробный памятник напоминает мне пресс-папье на столе делового человека. Такое пресс-папье служит для удерживания бумаг на одном месте. Мне кажется, что и первоначальная идея надгробного памятника заключалась в том, чтобы хорошенько придавить сверху беззащитного покойника и тем лишить его возможности выползать иногда из могилы, беспокоя близких друзей своими необоснованными визитами.
Поэтому, вероятно, постановка над трупом предохранительного пресс-папье — всегда дело рук близких друзей.
Я противник надгробных памятников, но если один из них когда-нибудь по настоянию моих друзей придавит меня — я не хотел бы, чтобы на нем красовались какие-либо пышные надписи, вроде: «Он умер, но он живет в сердцах», «Хватит ли океана слез, чтобы оплакать тебя?», «Бодрствуй там!», «Жил героем, умер мучеником»…
Я не хочу таких надписей.
Пусть на моем памятнике высекут четыре слова:
«Здесь лежит деликатный человек».
* * *
Злое чувство к той женщине, которую я любил, зародилось во мне таким образом: мы сидели с ней в гостиной, она рисовала карандашом в альбоме домик, в трубу которого кто-то, вероятно, с целью откупорить это странное здание, ввинтил штопор. На мой рассеянный вопрос о цели штопора художница ответила «дым» и немедленно пририсовала к домику поставленную на земле гребенку зубьями вверх.
Я сидел и думал: завтра нужно идти в театр, а моя горничная едва ли догадалась отдать в стирку белый жилет.
— О чем вы думаете? — спросила, глядя вдаль загадочным взором, хозяйка.
— Я? Так, знаете… Взгрустнулось что-то.
— Да… Я в последнее время замечаю, что вам как-то не по себе.
Это было верно. Третьего дня меня весь вечер терзало сомнение — запер ли я на ключ входную дверь моей квартиры, а вчера я получил письмо от отца с кратким уведомлением, что «такие ослы, как я, не могут рассчитывать на получение от него денежных сумм».
— Что же с вами такое?
— Так, знаете… Есть вещи, в которых не признаешься и близкому другу.
— Вы, может быть, влюблены?
— Ох, не будем об этом говорить…
— Да? По глазам вижу, угадала. А она… Отвечает она вам тем же?
— Не знаю… — рассеянно вздохнул я.
— Отчего же вы ее не спросите?
— Кого?
— Да эту женщину.
— Какую?
— В которую вы влюблены.
— Почему не спрошу?
— Да.
— Неловко…
Она нервно отвернулась от меня и взялась за карандаш, а я погрузился в размышления: если жилет был надет один раз — может он считаться свежим или нет?
Сзади шею мою обвили две ласковые теплые руки, и дрожащий голос хозяйки прошептал:
— Если ты, дурачок, не решаешься ее спросить, она тебе сама скажет: «Люблю!»
Первым моим побуждением было — подавить крик удивления и испуга… Я встал с кресла, обнял талию хозяйки и вежливо вскричал:
— Милая! Какое счастье!.. Наконец-то…
«Ничего, — подумал я, — теперь не люблю — после полюблю. Как говорится, стерпится-слюбится. Она, в сущности, хорошенькая».
Со своей стороны она тоже взяла мою голову и крепко прижала к своей груди, на которой красовалась брошка— выложенное рубинами ее имя «Наташа». Рубины впились в мою щеку и выдавили на ней странное слово «ашатан».
«Ну, — подумал я, — кончено! На мне оттиснут даже ее торговый знак, ее фабричная марка. Я принадлежу ей — это ясно».