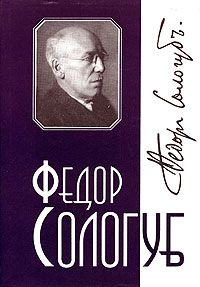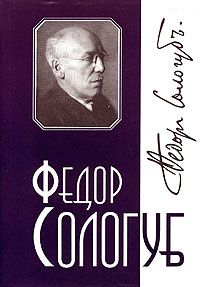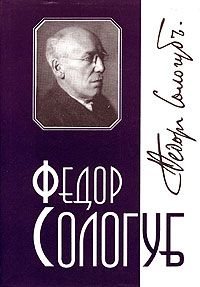Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень много, быть может – слишком. Число его стихотворений выражается цифрой во всяком случае четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб несомненно знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.
Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка – и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова – не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах – да и только разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой – и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.
Сологуб появился на литературном поприще как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически не молодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь – без молодости, его поэзия – без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников переживая физически, других он пережил поэтически: умер в полноте творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.
* * *
Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.
Не спорю: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция – наш конек. Открыли «эволюцию» – и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться.
К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности– его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилен. Эволюция была бы налицо, если б эти мотивы составляли характерный и исключительный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец – то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые в случае эволюции должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, – на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.
Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любование речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:
Не забудем же дорог
В Божий радостный чертог,
В обиталище блаженных,
И пойдем под Божий кров
Мы в толпе Его рабов
Терпеливых и смиренных.
Разве страдания России или близость кончины привели Сологуба к этим стихам – в 1898 году? А вот – о земле:
Вы не умеете целовать мою землю,
Не умеете слушать Мать Землю сырую,
Так, как я ей внемлю,
Так, как я ее целую.
О, приникну, приникну всем телом
К святому материнскому телу,
В озарении святом и белом
К последнему склонюсь пределу, –
Откуда вышли цветы и травы,
Откуда вышли вы, сестры и братья.
Только мои лобзанья чисты и правы,
Только мои святы объятья.
Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном круге».
Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.
И в 1911 году он писал:
Прекрасные, чужие, –
От них в душе туман;
Но ты, моя Россия,
Прекраснее всех стран.
Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.
Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?
Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требует себе поклоненья, –
И наша слабость,
Земная слабость
Алтари ему воздвигала.
Но всеблагий Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познанья,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Вельзевулом и Молохом.
Это сказано в большевицкой России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:
Знаю знанием последним,
Что бессильна эта тьма,
И не верю темным бредням
Суеверного ума.
Посягнуть на правду Божью –
То же, что распять Христа,
Заградить земною ложью
Непорочные уста
Или:
В ясном небе – светлый Бог Отец,
Здесь со мной – Земля, святая Мать…
Но – через несколько страниц снова:
Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.
Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей.
А пока что – восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греши со мной».
По совести – очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем, – так же, как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она – без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда слагался Сологуб, – мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся – и таким пребывшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу, всегда неизменно. Как жизнь Сологуба – без молодости, как поэзия – без ювенилий, так и духовная жизнь – без эволюции.