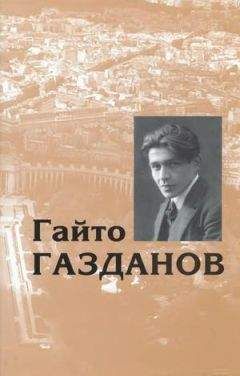И очень возможно, что наиболее вероятным пунктом, отправляясь от которого анонимный исследователь имел бы некоторые предположительные шансы подойти к частичному разрешению все той же загадки, должны были бы послужить четыре газетных вырезки, хранившиеся в письменном столе господина Бернара, пожелтевшая бумага которых позволяла определить их сравнительную давность. В них рассказывалась странная история мадам Б., пожилой и богатой женщины, покинувшей свою семью и приехавшей в небольшой город на юге Франции, где она умерла в странных обстоятельствах, не соответствовавших ни ее положению, ни ее возрасту и объяснявшихся только крайне предосудительным образом жизни, который, несмотря на свои преклонные годы, она вела до последних дней. Она жила в маленьком особняке, совершенно одна; увядшее свое лицо она покрывала густым слоем краски и пудры, надевала яркое платье и в таком виде поздними вечерами ходила по улицам в поисках случайных встреч. Автор статей некрологического характера описывал ее жизнь в ложноромантических тонах, которые он, по-видимому, считал стилистически необходимыми, чтобы придать известную убедительность изложению почти фантастических фактов. Претендуя, вероятно, без достаточного основания, на личное знакомство с мадам Б., автор изображал ее полной пожилой женщиной с сильно накрашенным лицом, известной всему береговому населению этого города. Ее видели, будто бы, в наскоро и небрежно выстроенных деревянных бараках с цинковой стойкой, на берегах реки, где она пила различные напитки в обществе бродяг и воров, той basse pegre[121], которая населяла эти места города, куда не ступала нога ни одного порядочного человека. Автор статей с большим прилежанием описывал душные вечера, и темное небо над черной ночной рекой, и эту женщину в ее почти сомнамбулических странствиях вдоль течения воды, начиная от выгнутого городского моста, – вниз, к тем пространствам, где река начинала сильнее пахнуть и слышнее струиться в темноте, мимо влажной травы берегов, где происходили чудовищные вещи, о которых автор статей не решался писать; он объяснял свое умолчание о них уважением к памяти мадам Б., но было позволительно предположить, что истинная причина этого умолчания заключалась в том, что он не был осведомлен о данной стороне вопроса и, возможно, сохранил некоторые остатки профессиональной честности, что представляется маловероятным, но не абсолютно невозможным.
Так прошло несколько лет; два или три раза мадам Б. показывалась в городе и даже была в театре, причем все видевшие ее могли подтвердить, что это была очень достойная и действительно пожилая женщина, без всякой краски на лице; она носила черные, совершенно закрытые платья, и никому не пришло бы в голову, что она и та, другая мадам Б., о которой потом было написано в некрологических статьях, – одно и то же лицо. Близко знавшие ее люди, именно местный доктор и ее соседка, вдова муниципального советника Парти, утверждали, что взгляды мадам Б. на текущие события и политические изменения, так же, как и на явно понижающуюся нравственность нынешних поколений, вполне соответствовали их собственным воззрениям и представляли собой законченную этическую систему, характерную для каждой хорошей француженки и которой основные принципы были – родина, семья и религия. Трудно сказать, какое начало было преобладающим в жизни мадам Б. – если предположить существование двух начал, а не остановиться окончательно на утверждениях доктора и вдовы муниципального советника Парти; потому что, в сущности, для удаления мадам Б. от своей семьи могли быть особые причины, не имеющие ничего общего с некрологическими данными и носившие хотя бы – что было бы вовсе не лишено правдоподобия – чисто материальный характер. Побуждения же, заставившие автора статей изобразить мадам Б. именно в таком фантастическом порочном виде, могли бы свидетельствовать с несомненностью только о нездоровом литературном вкусе этого человека, но ни в какой степени не о подлинно верном описании жизни мадам Б.
Так или иначе, но однажды мадам Б. была найдена у себя в спальне задушенной, причем на покойной была надета очень розовая рубашка; и лицо мадам Б. было сильно накрашено, что, казалось, подтверждало все те слухи, которые ходили о ее образе жизни и выразителем которых явился автор газетных статей.
Но история мадам Б., не имеющая, казалось бы, большого значения, приобрела бы особенный смысл в сопоставлении с тем фактом, что в день, предшествующий смерти господина Бернара, в очень поздний час на улицах города Т. вновь появилась та пожилая и накрашенная женщина, тот полупризрачный персонаж, о котором до сих пор не было определенных сведений. Ее появление, судя по показаниям видевших ее людей, следовало отнести примерно к одиннадцати часам вечера, когда еще не все было закрыто, горели фонари и вообще вряд ли кто-нибудь, не имеющий причин скрываться, мог пройти большое расстояние без того, чтобы встретить несколько прохожих.
Первым человеком, столкнувшимся с этой женщиной, был учитель местной коммунальной школы; однако его рассказ не мог считаться вполне достоверным, так как учитель вне часов своих служебных занятий, – а иногда даже и в такие часы, – неизменно находился в состоянии, близком к опьянению, что объяснялось не обычным алкоголизмом, но причинами социально-экономического порядка: считая, что Франция идет к гибели, терзаемая либеральными и социалистическими идеями, и не будучи в силах лично ничего предпринять, чтобы предохранить свою родину от неминуемой катастрофы, учитель находил минуты искусственного забвения только в помощи этих, почти наркотических, средств. И хотя, несомненно, такое состояние должно было облегчать его социальные страдания, оно все же затемняло его сознание и в области всех других вопросов, имеющих, как в данном случае, чисто психологический интерес; и в противоположность общественному мнению, полагавшему, что и в сознательном состоянии способности учителя были недостаточны для постижения какой бы то ни было отвлеченной проблемы, можно все же считать, что его внеалкогольные показания отличались бы большим сходством с действительностью, тем более, что для передачи своих впечатлений об этой встрече учитель не имел необходимости вдаваться в психологический анализ, что, вообще говоря, не входило ни в круг его возможностей, ни в круг его обязанностей. По словам учителя, он встретил эту женщину, возвращаясь домой, и даже спросил ее, как она поживает, на что получил лаконичный и крайне невежливый ответ, ставящий под сомнение не только его нравственность, но и способности отца семейства и гражданина, – и это было так незаслуженно и несправедливо, что учитель вошел в свою квартиру со слезами на глазах, что подтвердила впоследствии жена учителя, особа правдивая, энергичная и мужественная, но, к сожалению, почти совершенно глухая.
Вторым человеком, видевшим эту женщину, был депутат ближайшего избирательного округа, приехавший в город Т. на два дня с тем, чтобы в дальнейшем отправиться в Париж; его показания отличались точностью, но удивили всех тем, что, по его рассказу, женщина эта обратилась к нему на иностранном языке, которого он не понял. Это странное заявление могло найти себе, однако, частичное объяснение в том, что депутат большую часть жизни провел в своем департаменте, на наречии которого он привык говорить, и потому неожиданная и бегло сказанная французская фраза могла ему показаться иностранной. Будучи человеком строгой нравственности и, кроме того, не желая вводить себя в какой бы то ни было расход, депутат уклонился от всякого разговора с этой женщиной и продолжал свой путь.
Несколько позже было получено письмо от еще одной свидетельницы, подписавшейся «мадам X» и объяснившей свой анонимат соображениями фамильного порядка. «Вы понимаете, господин председатель, – писала неизвестная, – что бывают случаи, когда порядочная и ничем не запятнанная женщина, виновная только в непреодолимом влечении сердца и не желающая разрушать свой семейный очаг хотя бы в интересах выяснения страшной тайны, имеющей общественное значение, – должна скрыть свое имя от праздных и любопытных взоров толпы». Бесспорное совершенство стиля обличало в авторе письма женщину высшего общества, и одного этого было достаточно, чтобы ее показания приобрели особенный интерес. В письме пространно рассказывалось о том, как «пожилая и чудовищно накрашенная дама» медленно проходила по улицам; говорилось о неверной походке этой дамы, «точно вышедшей из сочинений Гофмана и во всем напоминающей некоторые фантастические персонажи, характерные для туманной и мистической германской литературы», говорилось о «нездоровом блеске глаз, странно не гармонировавшем с увядшим лицом», говорилось о многих других вещах; письмо изобиловало цитатами и ссылками на всевозможных авторов, но, к сожалению, не заключало в себе почти никакого фактического материала и, несмотря на несомненную литературную ценность, совершенно до тех пор невиданную в городе Т., не сообщало, в сущности, никаких новых данных.