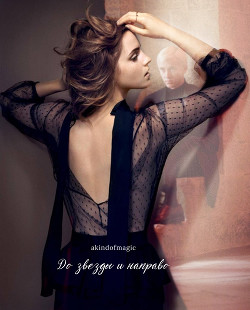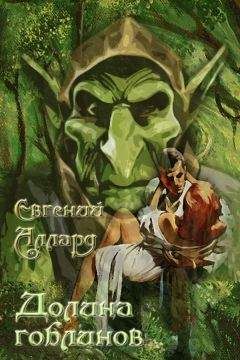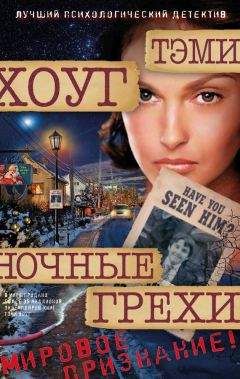шепчет мне на ухо лишь одно слово:
– Прости. Прости. Прости.
Не знаю, долго ли мы стоим посреди комнаты в объятьях друг друга. Мне кажется, целую вечность. А когда наконец отстраняемся, я иду к двери и прошу доктора Эрнандеса войти. Мама растерянна, почти встревожена, как будто опасается, что я потребую от него увести ее прочь. Но доктор Эрнандес нужен мне по другой причине. Я хочу, чтобы он был рядом, когда я задам тот единственный вопрос, который все еще имеет значение. Где ты была?
Войдя, он дарит мне осторожную улыбку, и на его лице явно написан вопрос: ты в порядке? Я киваю, а после встаю рядом с ним, и мы вместе смотрим на маму, и я задаю свой вопрос.
Она рассказывает, что после того, как отец Джон приговорил ее к Изгнанию и меня отослали из Большого дома, он сказал ей две вещи. Во-первых, во Внешнем мире у него есть свои люди, преданные Легиону, и до конца ее жизни они будут следить за ней и не допустят, чтобы она обратилась к властям. И во‑вторых, если когда-нибудь на Базу нагрянет полиция или другие федеральные службы, он поймет, что их навела она. Да, он будет знать, что это случилось из-за нее, и тогда он прикажет Джейкобу Рейнольдсу вывезти меня в пустыню, прирезать и бросить мой труп койотам. Мама не знала, стоит ли верить в первую угрозу, но во второй не сомневалась ни секунды.
– Он говорил всерьез, – хрипло шепчет мама, – Боже, именно так бы он и сделал.
Побледневший доктор Эрнандес делает шаг ко мне. Думаю, хочет подстраховать меня, если я вдруг упаду в обморок. Вряд ли это случится, но я все равно ему признательна.
Мама рассказывает, что позвонила бывшей подруге из Санта-Круса – той самой, которая когда-то отговаривала ее переезжать в Техас, – и попросила о помощи. Денег, присланных подругой, хватило на аренду квартиры в Одессе. Мама поселилась там и принялась думать, как вытащить меня из Легиона, но за три месяца в квартиру трижды вламывались, и ей начало казаться, что за ней следят незнакомцы, которых она встречала в доме или в магазине. Кроме того, она подозревала, что ее телефон прослушивается, и стала все реже и реже выходить на улицу. А еще начала пить. Сильно.
Мама умолкает, а потом говорит, что мне, наверное, не стоит про это слушать, во всяком случае прямо сейчас. Вмешивается доктор Эрнандес: по его мнению, я сама могу решить, нужно мне это или нет, и я чувствую прилив благодарности к нему и говорю маме, что хочу знать все, даже самое плохое.
Будь храброй, шепчет мне внутренний голос.
Мама со слезами на глазах заканчивает свою историю. О том, как бросила квартиру в Одессе и сбежала в Даллас, как люди отца Джона мерещились ей везде, во всех кафе и барах, и она видела его приспешников в каждом незнакомце, который улыбался ей на улице. Она пила все больше и больше и в конце концов уже не могла остановиться. А потом на долгое время – пустота и провалы в памяти.
И только два с лишним года спустя, после того как маму на скорой привезли в реанимацию, она поняла, что должна изменить свою жизнь. Каким-то образом она осела в Сиэтле (почему – не помнит) и однажды просто упала без сознания на пороге аптеки в южной части города. По пути в больницу у нее дважды останавливалось сердце; услышав, что мама шесть минут находилась в состоянии клинической смерти, я холодею от ужаса. В больнице она провела почти месяц, при выписке ей дали адрес реабилитационного центра в Орегоне – тогда-то она и вступила на путь возвращения к себе.
Пожар на Базе случился в то время, когда она проходила шестимесячный курс избавления от алкогольной зависимости. В реабилитационном центре старались ограждать пациентов от плохих новостей, чтобы не навредить процессу – мама использует именно это слово, и я бросаю взгляд на доктора Эрнандеса, – а кроме того, о ее связи с Легионом Господним никто не знал. Вот так и вышло, что о трагедии ей стало известно лишь два дня назад, когда реабилитация завершилась и она покинула центр.
Мама немедленно взялась за телефон и стала разыскивать меня. Через три часа она уже сидела в самолете, направлявшемся в Техас. В Одессу она прилетела вчера поздно вечером, и сегодня утром – по совпадению, в мой день рождения – доктор Эрнандес сообщил ей новость, которую она уже не чаяла услышать. Ее дочь выжила в пожаре, с ней все хорошо.
Мама умолкает и смотрит на меня. Мое сердце разрывается от боли за нее, за все, что она пережила, и я не знаю, прекратятся ли когда-нибудь муки, причиненные нам всем отцом Джоном, исчезнет ли его тень или без конца будет вызывать страдания и горе везде, куда бы ни дотянулась.
Доктор Эрнандес спрашивает, как я себя чувствую, и я говорю ему, что хочу вернуться в комнату. Мама вот-вот опять заплачет. Она говорит, что с моей стороны вполне естественно возненавидеть ее за все, что она мне сделала, и что она не винит меня за это чувство. Я мотаю головой и говорю, что люблю ее. Мама и в самом деле снова начинает плакать. Говорит, что тоже любит меня, что любила всегда.
Постараюсь ей поверить.
Восемнадцать мне исполнилось чуть больше месяца назад. Я взрослая. Могу отправиться куда захочу, но прямо сейчас – по крайней мере пока – я хочу оставаться здесь.
Я сижу в садике позади небольшого маминого дома на окраине Портленда, штат Орегон. Мама сейчас в городе, на встрече с куратором из реабилитационного центра, а по пути домой заедет в магазин за продуктами к ужину. Садясь в машину, она по десять минут настраивается на поездку и убеждает себя, что я, как и говорю, прекрасно побуду одна пару часов.
На столике рядом с моим креслом стоит кружка с дымящимся кофе. Я раньше никогда не пила кофе и до сих пор не решила, нравится ли он мне, но в реальном мире люди постоянно его пьют, а я не хочу отличаться от остальных. Хочу быть как все – во всяком случае, первое время.
Я делаю глоток кофе и обвожу взглядом место, которое, как повторяет мама, теперь стало моим домом. За садиком нет утесов, нет