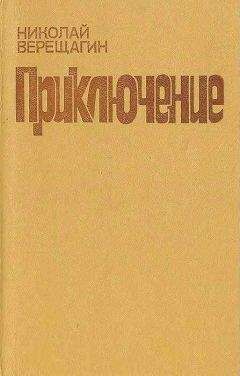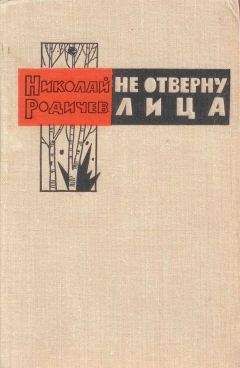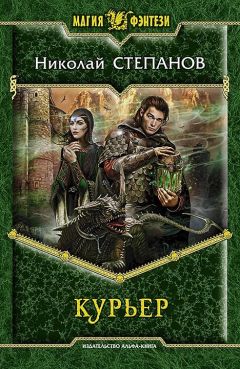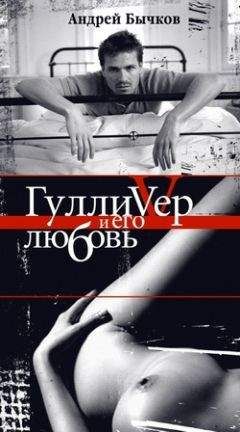Когда Антон начинал ощущать в горле сухость от длинных разглагольствований, а в Таниных глазах замечал легкую отупелость, он обрывал свои рассуждения и опять брался за весла. Они подплывали где-нибудь в тихом месте к прибрежным камышам, забрасывали, наконец, удочки, но, если рыба не клевала, у них не хватало терпения подождать, они раздевались и с шумом бросались в воду. Они заплывали далеко, барахтались, боролись в воде и поднимали такой гам, что потревоженные кулики с писком улетали вдоль берега за дальние камыши.
Если вода была особенно чистой, они ныряли с открытыми глазами, и в зеленоватой толще воды, пронизанной льющимся сверху желтым солнечным светом, в скользящих пятнах этого приглушенного света тоненькая фигура Тани с развевающимися в воде черными волосами, гибко и плавно скользящая над сплошной массой водорослей, тянущихся со дна, была по-русалочьи изящна. Таня ему нравилась, но Антон так и не поцеловал ее еще ни разу, всякий вечер откладывая это на завтра, словно боялся что-то испортить в их легких и чудесных отношениях, о возможности которых прежде даже не подозревал.
Накупавшись, они в изнеможении лежали на песке, жевали бутерброды, ели собранные в лесу ягоды, болтали о том о сем, а то и молчали в полудреме, и тогда вокруг были только плеск волны и шелест листьев. Вода — как зеркало, и где-то в глубине плыли грузные, отраженные озером облака. Столетние ивы тянулись ветвями к воде, а навстречу им тянулись их отражения. Пестрые бабочки и прозрачнокрылые стрекозы летали над водой и над берегом, с тонким писком проносились иногда стрижи, и даже осмелевшие кулики появлялись в своих владениях и расхаживали у воды, недовольно косясь издалека своими маленькими круглыми глазками.
В поселок часто возвращались за полночь. Луна висела высоко, прямо над темной равниной озера, и черная, осеребренная ее сиянием, поверхность воды переливалась и тускло поблескивала в темноте мириадами лепестков лунного света. Было так тихо, как не бывает на самом деле. Время от времени Антон переставал грести, поднимал весла, и лодка совсем неслышно скользила по темной глади воды, все замедляясь и замедляясь. Звучно, с отчетливым всплеском падали с весел капли: сначала частой дробью, потом редкими шлепками, потом уже не падали — наступала полная, безграничная тишина. Лодка замирала; а они сидели неподвижно и, не сговариваясь, сдерживали дыхание, слушая тишину, отсчитывая ее мгновения… Луна светила прямо сверху, и склоненное лицо Тани было в тени, а когда она поднимала голову, в лунном свете ясно проступали ее глаза, брови, губы — лицо ее было бледным и загадочным. От весел падали на воду четкие прямые графитные тени.
Оставаясь одна, Таня думала над тем, что слышала от Антона, пыталась вспомнить все в стройной последовательности, но толком ничего вспомнить не могла, — в памяти оставались только отдельные фразы, звучные имена, какие-то отрывки, а связь ускользала. И все-таки старые школьные представления, которыми она жила раньше, за эти нескольку дней как-то выцвели и обветшали; теперь она понимала, что мир бесконечно широк, а жизнь бесконечно сложнее, чем это прежде казалось ей. Лежа в своей маленькой комнате на кровати, вглядываясь широко открытыми глазами в осиянные лунным светом облака на черном небе, она долго еще не могла уснуть. Как странно и неожиданно за несколько дней изменились все ее мысли и представления. «Он необыкновенный человек», — думала она. И одноклассники в школе, и вообще все поселковые парни — все были простые и понятные, а Антон совершенно другой. Он больше походил на литературных героев, чем на реальных парней, но этим-то и нравился ей. Она начинала вспоминать его лицо, жесты, улыбку, и тотчас же в ее ушах раздавался убеждающий резкий голос, начинали звучать «сущность», «диалектика», «идеализм», «агностицизм» — и даже тень этих его слов, слабый отзвук их, возникающий в воспоминаниях, будили в ней снова то и тревожное и радостное ощущение падающих картонных стен и холодной просторной дали в их просветах. Она пыталась представить его молчаливым, притихшим, ласковым, но это ей плохо удавалось. Он опять начинал что-то говорить, возмущаясь и споря, издеваясь и убеждая, и даже когда он смеялся весело и открыто, одна тонкая и резкая складка у него на лбу никак не разглаживалась, и оттого казалось, что он страдает, что живется ему нелегко. Ей вдруг становилось жаль его: он такой умный и страдает, а потом она жалела и себя и тихо начинала плакать — без этого она не могла теперь уснуть. Слезы медленно набухали под веками, выкатывались на ресницы: весь лунный мир за окном начинал расплываться, размазываться, она смыкала глаза и снова пыталась представить его тихим и ласковым, а он хмурился, размахивал руками, нервно чиркал спичками и глубоко затягивался дымом, и грустно смеялся, и болезненно морщился, и говорил, говорил… Но вот он вдруг замолкал, лицо его разглаживалось, исчезала даже та складка на лбу, глаза его умиротворенно и ясно смотрели на нее, в глазах была нежность… — это она уже засыпала.
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей.
А. С. Пушкин
Бубенцова была задумчива и грустна все эти дни. Но сказать о Бубенцовой, что у нее было грустное лицо, совершенно недостаточно: она была нежно-грустна и прелестно-задумчива — так грустят нездешние идеальные женщины на полотнах старых мастеров. Встречаясь с ней в школе, где вся группа сходилась после обеда, чтобы показать Эльвире Сергеевне свои записи, встречаясь в столовой, в клубе, на пляже, да и просто на улице, Антон избегал смотреть на нее и от самих встреч старался по возможности уклониться. Зато она всякий раз смотрела на него долгим, печальным и чуточку укоряющим взглядом, будто он был в чем-то виноват перед ней, например, обещал ей что-то и забыл, обманул, а глаза ее говорили, что она не станет ему пенять, что она прощает ему — хотя в чем же он был виноват, черт возьми?! — прощает ему и никогда не напомнит ему, вероломному, о данных ей обещаниях. И хотя он не знал за собой никакой такой вины, временами под ее грустным и укоряющим взглядом действительно начинал чувствовать себя виноватым.
Он избегал ее, может быть, больше, чем тогда, зимой. Спрашивая себя об этом и стараясь, по обыкновению, дать себе отчет в своих чувствах, он решил, что не хочет ее видеть потому, что она уже не нравится ему, что ему нравится Таня и он сделал свой выбор, а ее лицемерная напускная грусть просто возмущает. И это было почти что так. А чтобы объяснить эту оговорку «почти», нам придется для полноты истины затронуть некоторые другие причины, настолько глубоко запрятанные в душе нашего героя, что он вполне и сам их не осознавал. Дело в том, что в самой Бубенцовой вместе с этой, пусть напускной, но очень уж натуральной укоряющей грустью, появилась какая-то особая прелесть — будто теперь Света стала и лучше, и добрее, будто теперь в ней откуда-то взялись и душевность, и прямота, и искренность, которых ему так не хватало в ней раньше, — и, следовательно, теперь глядеть на нее стало опасно: тот иммунитет к ее чарам, который он наконец-то приобрел, мог оказаться бессильным перед новой разновидностью ее очарования. Но, отдавая должное его знаменитому прямодушию и честности перед самим собой, в которых мы не раз могли убедиться, нужно сказать, что это новое ее очарование он скорее безотчетно ощущал, чем ясно видел и понимал. Ведь мы уже говорили, что всякий раз он отворачивался, хотя это делало его как будто бы виноватым, как будто бы сознающим свою вину; ведь он же действительно не смотрел на нее — поэтому можно смело сказать, что, сталкиваясь с ней почти каждый день, он, в сущности, ее в эти дни не видел. Значит, он честно мог полагать, что не боится рецидива, ибо то новое очарование Бубенцовой, о котором мы сейчас говорим, даже ощущаемое им, могло ему просто привидеться, даже наверняка привиделось, поскольку он честно на нее никогда не смотрел. Бубенцова ревновала и даже не скрывала этого, а ему и в голову не приходило торжествовать. Теперь она очутилась в таком же положении, как он зимой, да и вообще весь этот год, но ни малейшего злорадства он не чувствовал, никакой радости не было от этого, наоборот, он искренне хотел, чтобы и ей было хорошо, чтобы она не страдала. Поэтому он, привыкший поступать лишь согласно своим убеждениям, избегал появляться с Таней там, где можно было встретить Бубенцову, и вообще старался не выставлять свою дружбу с Таней на вид. Да и сама Таня не стремилась в компанию- им было хорошо вдвоем в лодке или в лесу у костра.
Он ничего не рассказывал Тане про Бубенцову, она знать ничего не могла об их отношениях, но почему-то, сталкиваясь со Светой, а это раза два или три случалось, Таня поглядывала на нее с какой-то странной робостью, почти со страхом, и казалась в ее присутствии подавленной. Однако Антона после того первого вечера больше о ней не спрашивала. Здесь нужно сказать, правда, что была у нее одна странная идея. Несколько раз она приставала к Антону, чтобы он поехал кататься на лодке не с ней, а с кем-нибудь из своих, а то, дескать, все с ней да с ней ему надоест, это однообразно, а она не хочет ему надоедать. Она начинала убеждать его, что он должен покатать своих девочек на лодке, что это даже нехорошо с его стороны, кататься только с ней, что это даже невежливо. Она доказывала ему это горячо и требовательно, но в самой горячности ее, так не соответствующей важности вопроса, в самой требовательности было какое-то отчаяние, будто она заранее боялась именно этого, заранее смирилась с этим. Он прекрасно понимал, кого именно она подразумевает под «своими девочками», он всячески отнекивался, чтобы успокоить ее, и, наконец, раздосадованный ее приставаниями, просто запретил ей упоминать об этом.