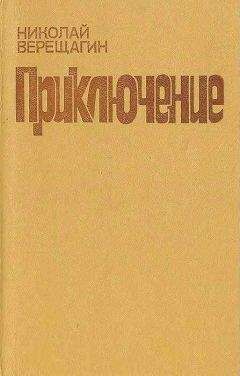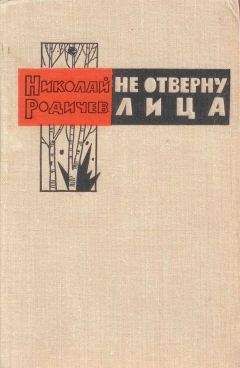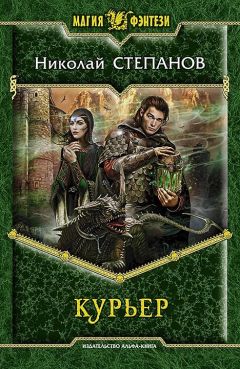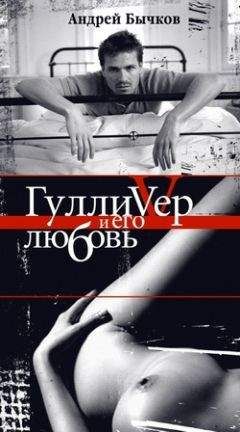И сто, и тысячу раз он приказывал себе не глядеть, просто не замечать ее и все-таки замечал каждый ее жест, каждую улыбку. Замечал и те ласково- вопросительные взгляды, которые она иногда посылала ему, замечал, и это как раз больше всего и мучило. А может быть, он ей тоже нравится, приходило ему в голову, может быть, она просто не умеет или стесняется выказать это? Почему она так смотрит?.. В таком случае надо проверить, решил он.
На Новый год (дело-то дотянулось до Нового года) он был приглашен в одну компанию, а она, как ему было известно, собиралась в другую, избранную, из физиков и лириков. Вот он и решил заявиться к ней домой прямо вечером тридцать первого и позвать в свою компанию, с которой в общаге собирался встречать Новый год. У него, по правде сказать, поджилки тряслись перед дверью ее квартиры, но он все-таки нажал кнопку звонка. Она вышла празднично одетая, великолепно причесанная, красивая, как никогда. Она очень удивилась, когда он мрачновато и от волнения как-то высокомерно выложил ей свое приглашение. «Что ты! — сказала она. — Я же обещала: меня в другой компании будут ждать. Нет, я не могу так». Он ничего не сказал, не поздравил ее даже в наступающим Новым годом, а просто повернулся и ушел. Это был для него мрачно-веселый Новый год. Мрачно было на душе, но и весело оттого, что все! Баста! Больше ничего с ней не будет, больше ему надеяться не на что, и значит, можно вообще не страдать.
А через несколько дней, уже в разгар сессии, после какого-то успешно сданного зачета, она поймала его в коридоре и пригласила в кино. И он, опешив, как дурак, согласился. «У меня есть два билета. Пойдем, Антош? Говорят, хорошая комедия». И он, как дурак, пробормотал: «Пойдем…»
А после кино, когда он провожал ее домой, состоялся у них откровенный разговор. Антон сам его завел, понимая, что другого, столь же удобного случая, возможно, не будет. Он сказал, волнуясь и не находя нужных слов, что она нравится ему, но что ничего серьезного у них быть не может и, вообще, не хочет с ней даже разговаривать до тех пор, пока Гриша и Валентин трутся возле нее, пока она любезничает с каждым встречным. Или он — или все эти ее друзья. Если она хочет быть с ним, то пусть прогонит их… То есть пусть она выбирает…
Она слушала его внимательно и серьезно.
— Но какое право ты имеешь указывать мне? — печально спросила она.
— Никакого, — торопливо и насмешливо согласился он. — Я для тебя никто, но я ничего и не требую. Я просто сообщаю тебе, что то-то возможно при условии того-то, хочешь ты этого или нет. Правило формальной логики… Я сам понимаю, что это невозможно, и не хочу себя обманывать. Хочу ясности…
— Странно, — с грустной задумчивостью сказала она. — Мы почти незнакомы и в кино-то пошли в первый раз, а уже объясняемся, как поссорившиеся любовники. Ты от меня требуешь чего-то, ставишь условия…
— Боже упаси! — с горечью сказал он. Теперь, сделав решительный шаг, начав этот разговор, он закусил удила и, чувствуя в себе какую-то нервную дрожь, уважая себя, почти гордясь собой, что хватило решимости начать с ней этот разговор, ринулся дальше. Теперь он готов был сказать ей все до конца и не боялся тех слишком точных и слишком книжных слов, которые он знал, но в спокойном состоянии стеснялся употреблять, опасаясь, что получится выспренно, ибо в их словаре, в лексиконе их поколения, были слова «чувиха» и «клеить», но не было слова «возлюбленная». — Боже упаси! — с горечью почти театральной сказал он. — Я не ставлю никаких условий. Я ничего не требую. Я просто констатирую тот факт, что у нас ничего не получится.
— Но почему? — с искренним недоумением и грустью спросила она. — Разве можно это сказать заранее? Я не понимаю…
Его бесило, что она спрашивает серьезно, так кротко и доверчиво смотрит на него. «Неужели и вправду не понимает? — спрашивал он себя и со злостью отвечал себе: — Нет, прекрасно все понимает, но притворяется. Чего тут не понять! Проще пареной репы. Я же нарочно все упростил и оголил до предела. Тут чистая логика — не понять нельзя». Ему тогда и в голову не приходило, что, как раз простив, можно все и запутать, что у нее может быть какая-то своя логика.
После этого разговора, думал он, все переменится. Невозможно же и дальше играть в эту дурацкую игру. Теперь они будут холодны друг с другом, едва будут замечать друг друга. Легкий кивок при встрече — вот и все. Мелькал в голове, правда, и другой вариант, но его он, как уже умудренный опытом, с горькой улыбкой отбрасывал. Этот вариант развивался в голове таким образом: Бубенцова приходит домой после разговора с ним под впечатлением его прямоты. Ночью ей не спится, она все думает, сопоставляет и постепенно истина высвечивается перед ней. Она понимает его правоту и, плененная (прошу прощения — здесь мы, может быть, слегка утрируем формулировки нашего героя — в его голове все звучало как-то сдержанней и целомудренней) его мужественной решительностью, его искренностью, его прямотой, его безупречной логикой, утром, после бессонной ночи, поймет… В общем, завтра возле раздевалки его встретит нежный и влюбленный взгляд. Он сам посмеивался над этим вариантом, и если и позволял себе пофантазировать, то просто так, ради горькой забавы. Уверен-то он был в другом: завтра у нее будет замкнутое лицо, отчужденный взгляд…
Каково же было его удивление, когда не оправдался ни первый, ни второй вариант. Утром она догнала его на лестнице, по пути в аудиторию, схватила за руку и как ни в чем не бывало затараторила: «Привет, Антошка! Горю! К зачету совсем не готовилась. У тебя нет шпаргалки? Выручай правда, не жмись!» Он онемел от изумления и негодования. Он думал, что она издевается над ним, но в ее глазах не было ни тени насмешки, а только неподдельная озабоченность. «Я сяду позади тебя, ладно? — говорила она, шагая рядом с ним и не отпуская его руку. — У тебя спина широкая — Шевцов не заметит, как я списываю. Мне Валентин хорошие „шпоры“ обещал», И она действительно села за его спиной и целых два часа, пока тянулся зачет, шептала ему, чтобы он отклонился то чуть вправо, то чуть влево, а то Шевцову видно, как она списывает, И он в бешенстве, стиснув зубы, все-таки выполнял ее приказания.
Вот так он и жил, но однажды на каком-то факультетском вечере, когда всей группой пили дешевое болгарское вино в свободной аудитории, Света попросила у него сигарету, а поскольку курить в аудитории было нельзя, она вела его вниз на первый этаж, и они уединились в полутьме на матах в «предбаннике» спортзала, где громоздились в полумраке какие-то гимнастические снаряды и не выветривался запах пота, канифоли и прелых кроссовок. За дверью в самом спортзале играли в пинг-понг: там сухо постукивали о столы шарики и раздавались резкие выкрики игроков. Щелкнув зажигалкой, красиво осветившей ее лицо, он дал ей прикурить, но не успела Света сделать и пары затяжек, как он взял у нее горящую сигарету и с хмельной решимостью поцеловал в губы. Она не уклонилась, не оттолкнула, она была покорной и нежной, как в тех горячечных снах, в которых часто снилась ему, и он торопливо и страстно исцеловал ее мягкие, податливые губы. Возможно, не будь за дверью в спортзале игроков, у них в этом темном «предбаннике» зашло бы еще дальше, но и от этих нескольких поцелуев он испытал какой-то сладостный шок.
Однако он предчувствовал уже, что ничего не изменится в их отношениях, и убедился в этом очень скоро. Уже в тот же вечер, когда он собрался проводить ее до дома, она сказала, что ее проводит Валентин. «Почему?» — спросил он глупо. — «Просто так» — ответила она. А Валентин, который ждал ее в сторонке, то ли насмешлтво, то ли сочувственно пожал плечами, мол, он здесь не при чем… Все осталось по-прежнему — она как будто забыла этот «предбанник», а он и не пытался напомнить ей. Чтобы меньше мучиться, он еще старательней избегал ее. Доходило до того, что, явившись на какой-нибудь вечер или на танцы, он поворачивался и уходил, обнаружив, что и она здесь. Она этого не замечала или притворялась, что не замечает, или нет, пожалуй, действительно не замечала. Около нее всегда вертелось столько народу, столько знакомых находилось везде, что ей было бы трудно заметить его маневры и это подчеркнутое стремление дистанцироваться от нее.
Однажды, уйдя с еще одного факультетского вечера, чтобы не видеть, как она кокетничает с другими, он долго бесцельно шатался по пустынным улицам, по темным холодным улицам, истосковался, продрог до костей и уже возвращался в общагу, когда в переулке нос к носу столкнулся с ней. Она была не одна, за локоть она держала какого-то незнакомого парня в хорошем «прикиде», с самоуверенным гладким лицом.
— Антоша, постой! — воскликнула она, крепко ухватив и его за локоть. — Как хорошо, что я тебя встретила… — Теперь ты мне не нужен, — сказала она парню, держа за локти обоих. — Меня Антоша проводит, а ты можешь идти спать, соня несчастный. Смотри только завтра репетицию не проспи, а в пятницу не смей и заявляться без готового текста. — Тот, мягко улыбаясь, кивнул, взял ее руку и шутливо приложился к варежке. Антон стоял дурак дураком; он так и не вынул рук из карманов, стоял набычившись, хмуро глядя под ноги, а она, держась за него, как за столбик, махала своему прежнему спутнику рукой в пестрой варежке и кричала что-то насчет репетиций. Наконец тот скрылся за углом, она обернулась к Антону оживленным лицом, но, увидев его мрачным, встревожилась.