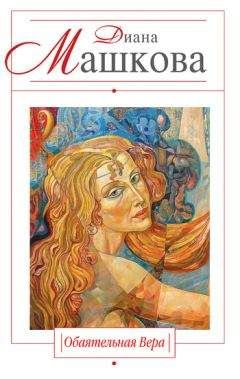Деньги, которые были отложены у Маши «на черный день», стремительно заканчивались, хотя молодая мама не позволяла ни себе, ни ребенку ничего лишнего. Даже одноразовые подгузники не покупала: стирала пеленки по нескольку раз на дню. Новых поступлений ждать было неоткуда – о том, чтобы подработать, речи не шло, и она все чаще вспоминала слова Аллы, которые теперь казались пророческими: «Тебе не на что будет жить, начнешь клянчить у родителей?» Еще чуть-чуть, и действительно придется звонить отцу с матерью, сознаваться во всем. Она как огня боялась этого телефонного разговора. Представляла, как расстроится папа, узнав, что она сломала свою не успевшую начаться актерскую карьеру. Закопала талант. А ведь папа больше ее самой радовался поступлению в театральный, гордился успехами. Было так стыдно! Маша долго думала, как поступить – все равно рано или поздно придется все рассказать. Сколько можно сворачивать разговоры с мамой и папой до трех заученных и насквозь лживых фраз: «У меня все отлично, убегаю на репетицию. Почему долго не отвечала на звонки? Уезжала с театром». Подумав, Маша написала родителям длинное письмо. Все объяснила, во всем честно призналась. Теперь оставалось только собраться с духом и отправить конверт.
От голодной смерти спасли – через месяц после рождения Дашеньки явились вдруг бывшие коллеги с поздравлениями. Многие извинялись за то, что не смогли подобрать малышке подарок – не было в жизни такого опыта – и протягивали молодой маме розовые конверты. Маша не подавала виду, что радуется этим драгоценным подношениям намного больше, чем крошечным нарядам и погремушкам.
А после этого люди вокруг Молчановой вдруг начали стремительно убывать. Через пару недель ее телефон уже молчал круглые сутки, а если звонила она сама, трубку часто не брали. Никто не заходил, не навещал. Маша поняла, что это и есть настоящий конец прежней жизни – второе пророчество не заставило себя долго ждать. Выдернутая из профессии, из беззаботной юности, скованная по рукам и ногам, она быстро оказалась никому не интересна и не нужна. И от этого становилось так больно…
Неожиданный звонок в дверь раздался, когда Даше исполнилось полтора месяца. Молчанова почувствовала, как сердце в ее груди учащенно забилось, пытается выскочить наружу и мешает дышать. Она осторожно подошла к двери и заглянула в глазок. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, спиной к двери, у ее порога стоял солдат. Она открыла. Олег повернулся. Маша заплакала.
Меньше чем за год он постарел лет на десять. Волосы стали наполовину седыми, лоб теперь пересекали глубокие морщины, на шее обозначились складки, словно ему не двадцать три, а все сорок.
– Живой, – выдохнула Машка и бросилась к нему.
– Маруся, родная. – Он сжал ее крепко-крепко, она задохнулась. – Вот видишь, любимая, я вернулся.
Они долго стояли, не в силах ни о чем говорить. А потом Дашка подала из дальней комнаты голос. Ее тоненький плач становился все громче. Олег изумленно посмотрел на Машу, она улыбнулась и виновато пожала плечами. Он ничего не понял, только продолжал держать ее в объятиях и таращить глаза.
– Это Дашенька, ей полтора месяца. Дальше сам считай.
Он тряхнул головой. Молчанова видела, что в голове Олега все перепуталось, перемешалось: как ни старался, он не мог сообразить, сколько времени прошло с их последней встречи.
– Я десять месяцев и шестнадцать дней был в Чечне.
– Вот видишь, все сходится. – Она вздрогнула оттого, каким голосом он это сказал. – Дашка твоя дочь.
Он закрыл руками лицо и упал перед Машей на колени. Долго стоял так, упершись лбом в ее ноги, не произносил ни слова и трясся, как от холода, мелкой дрожью. Она опустилась на пол рядом с ним, попыталась успокоить, начала гладить по волосам, которые стали жесткими словно проволока. Олег не приходил в себя долго: только крепче сжимал Машу, словно она была единственной опорой в его жизни, и что-то бессвязно неразборчиво бормотал.
– Что было с тобой, там… на войне?
– Не спрашивай никогда! – прохрипел Олег.
Маша едва сумела разобрать его слова.
Аннушка сидела у окна и тревожно вглядывалась в темноту. Мысли беспорядочно метались, сердце жгло изнутри. Только утром Вера извинялась, ползала перед матерью на коленях и умоляла ее простить. Говорила, что никогда больше не будет так поступать. Возьмется за ум. Анна в тысячный раз поверила. И что? Стоило опуститься на деревню сумеркам, и ее дочь снова как подменили.
Мать не понимала, что она делает не так. Обида не оставляла ее ни на минуту, мучила весь последний год. Верочка больше не была похожа сама на себя. Временами по-прежнему ласкалась котенком, обнималась. Но о чем бы ни попросила Анна, внимания не обращала – поступала по-своему. Учеба в школе ее нисколько не волновала, перебивалась с двойки на тройку. К работе по дому приучена не была, мать по-прежнему со всем справлялась сама. Верочка с удовольствием делала только одну вещь на свете – гуляла. Холодно ли, тепло, убегала на улицу с подружками и друзьями: домой не загнать. Поначалу Анюта даже радовалась, что ее дочка выросла такой общительной девочкой. Сама-то она вечно сидела, от всех закрывшись, боялась людей. Но потом стала беспокоиться: дома из Верочки, такой звонкой и веселой на улице, словно вытаскивали батарейки. Она лежала тихонько на своей кровати и о чем-то мечтала, уставившись в потолок. Если мать начинала стыдить, просила сесть за уроки, Вера брала в руки учебник и через пару минут засыпала над ним.
Анюта понять поведения дочери не могла. Пыталась действовать решительно – запирала дом изнутри и прятала ключ. И что? Вера дожидалась, пока мать уснет, и убегала через окно. Как только пролезала в такое крошечное отверстие – одна створка только и открывалась – да еще умудрялась ловко прыгнуть с приличной высоты?! Аннушка умирала от страха, когда представляя себе, какой опасности подвергает себя дочь: в их доме, давно уже не помнившем мужской руки, все испортилось, обветшало. Одно неловкое движение, и можно вывалиться на улицу вместе с окном, которое рассохлось, перекосилось и теперь опасно неустойчиво сидело в своем гнезде. Мать бросила эти эксперименты и дверь на ночь запирать перестала. Все равно бесполезно.
Всю ночь Верочка гуляла неизвестно с кем, а возвращалась под утро. Голодная, замерзшая, но довольная и счастливая. Ластилась к матери, просила прощения, обещала что угодно – лишь бы загладить вину.
С кем проводит время ее девочка, Аннушка не знала. Разве что догадываться могла: в последнее время то и дело обнаруживала под окнами бесчисленные мужские следы. О том, были эти прогулки невинной встречей рассвета или чем-то другим, она даже думать боялась. Сразу становилось так страшно и плохо: хоть в петлю лезь. А стоило заговорить об этом с дочкой, как она тут же становилась колючая и чужая. «Я не твоя собственность, – нервно кричала Вера, – хватит ко мне лезть!». И, хлопнув дверью, убегала опять.
Первое время мать ходила за дочкой, искала, звала. Но заканчивалось все одним и тем же: Вера грубо прогоняла мать. Велела не позориться на всю деревню, а идти домой. Якобы она следом придет. И снова приходилось ждать до самого утра.
Плохие мысли Анна от себя настырно гнала. Не может такого быть, чтобы Верочка, еще совсем глупенькая маленькая девочка, оказалась во власти греха. Господь не допустит! Все, что было у нее – любовь и ласку, – Анна своему ребеночку отдала. Не могла малышка, которую так любили, вырасти человеком дурным. Не бывает такого. Отец Тихон ее беременность благословил, значит, все должно быть хорошо. А капризы и баловство? Возраст такой, пройдет.
– Верка твоя, – как-то раз задумчиво высказалась Маня, – кто бы мог подумать, в отца пошла.
– Маня, ты что? – Анна вздрогнула: – О чем говоришь?!
– Девица-то оказалась слаба на передок.
Анну словно обдали кипятком. Она онемела от боли, ничего не могла возразить.
– Вот так-то. Гены. – Маня тяжело вздохнула. – Натуру ничем не перешибешь.
Соседки крепко тогда поругались. Анюта защищала дочь как тигрица, рассказывала, что молодежь другая пошла, что теперь не те времена, чтобы в юбках до пят да в платках ходить. И не значит это, что кругом только разврат, который Мане всюду мерещится. Просто свободы больше. Никто не хочет прежних правил – молодежи нужно разговаривать, общаться, вот и встречаются ребята по вечерам. А когда же еще? Днем в школе, потом уроки. Не так много времени остается.
– Ты можешь и дальше глаза зажмуривать. От себя самой правду скрывать. Но я-то знаю, что говорю! – рассердилась Маня.
– Ничего ты не знаешь, мелешь зря языком!
Маня, обидевшись, ушла. Целый месяц на пороге подруги не появлялась, и Аннушка тоже не собиралась к ней идти на поклон. Но потом помирились – глупо молчать, когда все равно на соседних грядках кверху задом торчишь целый день. Делать вид, что друг друга не замечаешь? И без того тоска зеленая. Анюта только-только на пенсию по старости вышла, не привыкла еще без коллектива, хотелось хоть с кем-нибудь парой слов перекинуться. И все вернулось на круги своя. Снова стали чай вместе пить, разговаривать, только трещина не зажила – осталась. Одного неосторожного взгляда Мани на Верочку хватало теперь, чтобы Анна вспоминала обидные слова и не желала дальше с приятельницей говорить. Замолкала, и все. «Слаба на передок», – стучало в висках, и глаза наливались кровью.