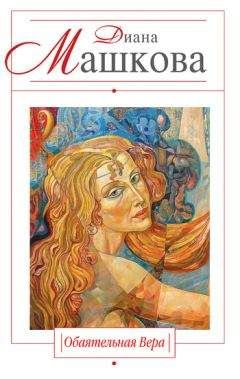– И что?! – Он повернулся к нежеланным гостям. – Нас расформировывают через полгода.
– Вот уж точно не моя проблема, – пробурчала женщина себе под нос, возмущенная тем, что никто даже не догадался предложить ей стакан воды.
Замотанный в пеленки ребенок тоже недовольно зашевелился, заплакал.
– Я что им, волшебник? – не унимался директор. – У них там планы, показуха, а мне куда всех детей девать?!
– Вы не перекладывайте на других-то, – попыталась посетительница урезонить мужчину: очень хотелось поскорее выполнить свою миссию, передать ребенка чинчином и уйти. Но директор как будто ее не слышал.
– Постановили в правительстве, что детских учреждений быть не должно, – он продолжал выступать, – мы одними из первых попали под раздачу. Теперь, якобы по причине того, что все малыши у нас пристроены в семьи, дом ребенка должны закрыть!
– Еще шесть месяцев у вас есть, – женщина безразлично махнула рукой, – пристроите.
– Да вы хоть что-нибудь понимаете?! – Он наконец обратил внимание на собеседницу: из глаз посыпались гневные искры. – Дети-то прибывают! И вообще, мне это закрытие зачем? Куда я в свои пятьдесят два работать пойду?! А у меня еще сорок человек персонала, у всех дети, семьи. Их что, на улицу?!
– А-а-а, – женщина усмехнулась, – так вы о себе беспокоитесь. Ничего. Раз чиновники постановили «детей по семьям», значит, и для вас что-то найдут.
– Давайте сюда свои бумаги, – он выхватил из рук провожатой папку с документами Андрюшки, – и можете быть свободны. Как-нибудь разберемся без вас!
– Так я это с самого начала и предлагаю…
Женщина покачала головой. За все время работы не могла припомнить такого ужасного отношения. Даже как-то неловко было оставлять здесь младенца: людям, похоже, не до детей. Она тяжело вздохнула и, не оборачиваясь, ни с кем не прощаясь, вышла за дверь.
Андрюшку устроили в просторной комнате, в которой стояло всего семь кроваток. Причем три из них оказались пустыми. С его появлением в группе стало пять малышей. Один из них, почти годовалый, был с огромной головой и странными выпученными глазами, которые неотрывно смотрели в одну точку. Полугодовалая девочка в соседней кроватке лежала как кукла, не шевелилась. А два других вели себя как обычные дети: потихоньку возились, шевелили руками-ногами.
Новенького нарядили в подгузник, в новые ползунки и распашонку. Кроватку для него застелили цветастой простынкой. Если бы не горестное выражение маленького лица, можно было бы подумать, что это самый обычный домашний ребенок: ухоженный, чистый. Только потухшее выражение глаз выдавало в Андрюшке отказника. Мама оставила его. Нина тоже. Он был не нужен никому на всем белом свете.
Мальчик лежал, широко раскрыв глаза, время от времени поворачивая головку то в одну сторону, то в другую. На стенах комнаты были нарисованы красочные картинки. На одной из них хитрая лиса радостно скалилась Колобку. И он, пустая голова, тоже хохотал во весь рот.
От больничной жизни новая, детдомовская, почти ничем не отличалась. Няни и медсестры приходили по расписанию, несколько раз в день – кормили, меняли памперсы, подмывали, перекладывали с боку на бок. В хорошую погоду малышей вытаскивали на прогулку, чего не было в стационаре. А все остальное – то же: чувства одиночества и безнадежности, которых Андрюшка боялся больше всего, никуда не делись. У него больше не было сил бороться с пустотой: она окружала его и наполняла изнутри. Не было ни стремления, ни стимула что-то делать. Не было смысла чего-то хотеть. Андрюшка изо дня в день жил как растение: принимал все, что ему предназначалось, и только.
В три месяца после положенного медосмотра диагноз «отставание в развитии» подтвердился. Теперь уже на полном медицинском основании. Малыш не желал держать головку, не пытался перевернуться со спинки на бок и даже не думал интересоваться погремушками, которые висели над ним в великом изобилии. Хотя няни старались, меняли их как можно чаще – недостатка в игрушках московский дом ребенка не испытывал: все добрые люди знали о том, что рядом живут дети-сироты, и хотели помочь. Несли и несли…
– Борис Васильевич, давайте просто заглянем! – голос директора дома ребенка, единственного мужчины, резко отличался от всех остальных, и Андрюшка безошибочно его узнавал. Ему нравилось наблюдать за суетливым мужчиной: было в нем что-то необычное, такое, что ребенок никак не мог разобраться – приятно ему присутствие этого человека или нет.
– Помилуйте, – незнакомый низкий голос протестовал, – я уже говорил вам: не младше двух лет. И чтобы на горшок ходили, ложку держали. Мы же обо всем договорились.
– Я вам плохого еще ни разу не посоветовал, – директор настойчиво гнул свою линию, – вы же не с улицы к нам пришли! Деток с серьезными диагнозами даже не показываю. А это здоровый великолепный малыш.
– Опять «отставание в развитии»?
– Да. Я же объяснял, эти слова вообще ничего не значат. Попадет малыш в нормальную среду, в семью, и выправится за несколько месяцев.
– Честно говоря, нам бы с шестерыми как-нибудь справиться. Мы у вас и так, по-моему, половину воспитанников забрали.
– Если бы половину, – директор тяжело вздохнул, – дети-то все поступают. Вы все-таки подумайте. Приемной семье государство платит за содержание каждого ребенка!
– Я знаю…
– Давайте только посмотрим! Хорошо? Мальчик чудесный. В другой дом ребенка отдавать жалко. Ему бы в семью.
– Сколько ему?
– Почти четыре месяца.
– Нет, это невозможно!
– Просто взгляните, ничего больше, – директор распахнул перед гостем дверь и практически силой затолкал в комнату огромного, неестественно пузатого человека.
Оказалось, что с двумя мужчинами была еще и женщина. Одетая в юбку до пола, блузку с длинным рукавом и платок – это в августовскую-то жару, – она молча, опустив глаза в пол, следовала за мужем. В отличие от супруга жена была худющей как жердь, как будто природа ошиблась в распределении плоти внутри этой семьи. Все трое подошли к кроватке Андрюши и уставились на него. Мальчик невольно заерзал под колючими изучающими взглядами: его словно выложили на прилавок.
– Маленький, – Борис Васильевич скривил губу, – что с ним делать?
– Не переживайте, дети быстро растут! Он будет на старших смотреть, копировать. Быстрее всему научится. Чем раньше ребенок попадает в семью, тем лучше воспринимает внутренние порядки. С некоторыми двухлетними, помяните мое слово, будет гораздо труднее, чем с этим младенцем.
– Настя, что скажешь? – мужчина повернулся к жене: – Тебе решать.
Женщина пожала плечами. Посмотрела вопросительно на директора, тот согласно кивнул. Она протянула руки к Андрюшке и достала его из кроватки.
Мальчик редко оказывался в последнее время на руках и успел отвыкнуть от приятного тепла, которым умели делиться взрослые люди. И теперь, хотя женщина держала его бережно, осторожно, он ощущал какое-то странное неудовольствие. Словно что-то было не так с ее холодным плоским телом.
Женщина неторопливо прошлась с Андрюшкой по комнате, словно примеряла его к себе. Пару раз покачала, оценивая вес. Еще раз прошлась, попутно заглядывая в другие кроватки. Взгляд ее невольно упал на ребенка с выпученными глазами, в котором безошибочно угадывался синдром Дауна. Она поморщилась и отвернулась. Шаги ее ускорились.
– Хороший мальчик, – жена вернулась к мужу, который стоял, по-хозяйски опершись рукой об Андрюшину кроватку. Повертела мальчика перед носом супруга и потом опустила ребенка на место.
– Берем? – в глазах толстопузого Бориса Васильевича появился алчный блеск.
– Давай, – его жена с сомнением пожала плечами и еще раз посмотрела на худенького вихрастого малыша, который не вызывал никаких неприятных эмоций, – ты сам-то что думаешь?
– Крепенький. Вроде спокойный. Да?
– Время покажет.
– Да ладно тебе, – мужчина легкомысленно отмахнулся, – Бог даст, вырастим.
Она как-то странно на него посмотрела и заторопилась к выходу из комнаты, в которой остался дожидаться своей участи маленький Андрюшка.
Целую неделю они не делали ничего. Олег не писал автобиографию, Маша не брала на работе характеристику. Каждый был погружен в неприятные мысли и не мог избавиться от чувства собственной неполноценности. Учились, готовились, собирали бумаги… Только для того, чтобы понять – кишка тонка. Взять на себя ответственность за ребенка, на выздоровление которого нет никакой надежды, они не могли: не было такой самоотверженности, таких крепких душевных сил.
Мрачные настроения в доме не лучшим образом отражались на Дашке. «Родоки» ходили хмурые, почти не разговаривали друг с другом и только по привычке бросали в сторону дочери ненавистные фразы: «заправь постель», «поешь», «почисти зубы», «надень куртку». Эта бесцеремонная и глупая опека выводила Дашу из себя похуже криков и оскорблений. Попробовали бы они указывать так какому-нибудь взрослому человеку. Да хотя бы друг другу. До развода было бы рукой подать. А вот ребенок, по их мнению, обязан терпеть, стиснув зубы; должен молча выполнять унизительные приказы. Как будто в свои четырнадцать лет Даша сама не знала, что ей нужно делать, а что может подождать. Чему их только учили в этой школе приемных родителей?!