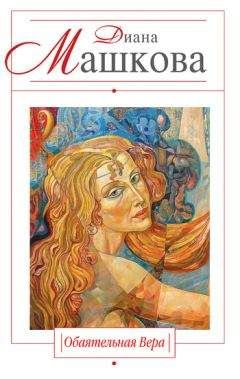– Алла. Я позвоню. Не тяните с решением!
– Нам нужно подумать, – повторила Молчанова как автомат.
Алла заглянула в лицо Маши и окончательно все поняла.
– Хорошо, – из ее голоса пропали и мягкость, и участие: в каждом звуке звенела сталь. – Спасибо, что подвезли. Удачи!
Она с достоинством вышла из машины – дождь стал слабее, да и до очередного государственного учреждения, в которое она опаздывала, оставалось всего несколько шагов – и, не оборачиваясь, с царственной осанкой подошла к тяжелым дверям. Сложно сказать, что в ее надменной походке показалось таким знакомым… Но Молчанова вспомнила. Пятнадцать лет назад. В роддоме, где родилась Дашка. Это была та самая Алла, которая приходила к ней, якобы заботилась, помогала, а хотела забрать ребенка…
Дыхание перехватило. Маша откинулась на спинку кресла, хватая ртом спертый воздух салона. Олег, увидев лицо жены, опустил с ее стороны стекло, схватил бледную ладонь, начал ее растирать.
– Твари, – процедил он сквозь зубы, – какие твари! Я сначала даже не понял. У тебя диктофона с собой не было?
Маша отрицательно мотнула головой.
– Судить таких надо! Сколько же дряни в этом мире развелось. Как они могут, на детях?!
– Олег, успокойся.
– Если еще раз когда-нибудь ее увижу…
– И что? – Она перевела на мужа обессиленный взгляд: – Она давным-давно в этом бизнесе. Связи в опеке, в роддоме, повсюду. Целая толпа людей этим кормится. Все схвачено.
– А дети?! Дети-то за что страдают?!
Маша закрыла глаза. Они с Олегом были одни. Кто позволит им перевернуть с головы на ноги этот мир? Кто даст разрушить прибыльную систему?
Снега навалило почти по пояс. Женщина несла к низенькому, с потрескавшимися стенами, учреждению сверток, перевязанный голубой лентой. Думала только о том, как бы попасть ногами в узкую, расчищенную лопатой тропинку и не упасть. Равновесие было не так-то просто сохранить – мало того, что ребенок на руках, так еще и на запястье болтается тяжеленный пластиковый пакет с детскими вещами. Взяла, конечно, не хотелось главного врача обижать. Но какой прок в этом личном имуществе? Все равно никто не будет следить за тем, чтобы на Аннушку надевали именно ее нарядные кофточки и ползунки – все пойдет в общий котел. Протрется, износится и ничем не будет отличаться от остальных казенных вещей.
Она потопталась на пороге, отряхнула налипший снег. Если дежурит Валентина Ивановна, ее лучше не дразнить: любит она носиться со своими полами. Моет до блеска, никто не спорит, но и чистоты требует от всех поголовно. Даже директор у ней, как маленький, на цыпочках ходит, боится наследить. Женщина улыбнулась, вспомнив, как смешно Валентина Ивановна отчитывает Ивана Семеновича. А он слушает, опустив голову. Не перечит.
Директор был на месте, ждал их.
– Проходите, милочка, – гостеприимно показал рукой на диван, – располагайтесь.
Женщина уложила Аннушку, сразу же начала разворачивать одеяло: в помещении щечки девочки сразу покрылись румянцем, было видно, как ей стало жарко.
– Вот, – она улыбнулась Ивану Семеновичу, – новенькую вам привезла.
– Что ж, – директор ласково взглянул на Аннушку, – хорошая девочка. Сколько нам?
– Позавчера исполнилось шесть месяцев.
– Родственники есть?
– Никто не объявлялся.
– А с матерью что?
– Умерла, – женщина опустила голову.
Аннушка во сне нахмурила брови и скривила губки, словно собиралась заплакать. Но ее провожатая быстро сообразила: прикоснулась к губам малышки соской. Аннушка послушно открыла ротик и стала, причмокивая, сосать пустышку. Привыкла к ней за три месяца в больнице.
– Как это случилось? – директор понизил голос, словно не хотел, чтобы девочка слышала их разговор.
– Муж. Ножом. Семьдесят два удара!
– Господи!
– Вот так. Раньше просто пили вместе, вроде никому не мешали, а потом началось: драка за дракой. Сначала Аннушка попала под горячую руку. Вовремя забрали ее у этих алкашей.
– Мать не при ней убили?
– Нет. Это уже потом. Вера покойная, мать Аннушки, продала свое наследство соседу – и дом, и землю. А мужу ничего не сказала.
– Как это так?
– Да кто же ее знает, в каком она была состоянии.
– Тогда можно было и оспорить. По закону…
– Не смешите, Иван Семенович. Кому охота связываться? На суде в два счета вынесли решение – «признать, освободить помещение». В тот же вечер муж эту Веру за то, что им жить больше негде, и прибил. Так что нет у Аннушки никого. Мать похоронили. Отец в тюрьме. Вернулся туда, откуда вышел.
– А братья, сестры?
– Есть, – лицо женщины просветлело, – помните троих мальчишечек? Хорошенькие такие. Ванечка, Коленька и Лаврушка. Их еще всех сразу Петр Егорович Верещагин усыновил.
– Помню, как же! Но в документах-то ваших «Мочалова». А у тех детей и их матери была другая фамилия.
– Правильно! Она уже потом за этого Василия Мочалова замуж вышла. На свою беду.
– Наверное, так было задумано. Уж мы-то с вами всякого насмотрелись…
– Все равно не могу привыкнуть. – Женщина тяжело вздохнула и машинально погладила Аннушку по крошечной ножке. – Каждый раз сердце кровью обливается.
– А может быть, Петр Егорович захочет и нашу Аннушку удочерить? – Иван Семенович даже подскочил на месте: так обрадовался счастливой мысли. – Он сыновей как родных полюбил! И девочке в семье, да со своими же братьями, будет в тысячу раз лучше.
– Мы с Верой Кузьминичной тоже сразу об этом подумали! Но вы представляете, уехали Верещагины. За границу, всей семьей. Работу Петру Егоровичу предложили.
– И что же, ни нового адреса, ни телефона?!
– Нет…
– Но ведь в опеке обязаны следить, – директор бросил на посетительницу укоризненный взгляд, – тем более за рубеж!
– Как сказать, – женщина потупилась, – у нас с другими формами устройства детей проблем хватает: опека, патронат, приемная семья. Вот там ходим, следим. А усыновители, простите, уравнены с родными родителями в правах. Тут уж государство влиять не может. Это их дети – куда считают нужным, туда и везут.
– Да ведь я чисто по-человечески, милочка! Не обижайтесь.
– По-человечески я с вами, Иван Семенович, полностью согласна! Петр Егорович даже сам попрощаться летом к нам заходил. Конфеты принес в подарок, шампанское. Такой замечательный человек!
– И что же, не поинтересовались у него, куда едет?!
– Как на беду, наши все, старенькие, были в отпусках. Одна практикантка Леночка на приеме сидела. Он ей оставил и телефон, и адрес вместе с подарком.
– А она?!
– А она вино и конфеты сохранила, хотела приятное нам сделать. А записку куда-то дела.
– Вот надо же! Лучше б наоборот.
– Не говорите, – женщина махнула рукой, – но Леночка, когда поняла, в чем дело, так переживала, так расстраивалась, что на нее саму было больно смотреть. Теперь что поделаешь? Новых родителей будем искать.
– Вы же сами знаете, – Иван Семенович обреченно вздохнул, – у нас людям самим часто жить не на что. Какие приемные дети? Мало кто на такое решится.
– Но ведь есть же и богачи! Вон, вчера в газетах писали, этот, наш…
– Такие о чужих бедах думать не будут. – Иван Семенович перебил, не желая направлять разговор в неприятное русло. – Их другие вещи интересуют. Не будем об этом.
Аннушка проснулась, только когда ее начал осматривать врач. Испугалась, не поняла, где очутилась, и залилась горькими слезами. Кое-как ее успокоили: сам Иван Семенович добрых двадцать минут погремушками над девочкой бренчал. Потом ее умыли, подмыли, переодели и понесли. В младшей группе, куда малышку определили после оформления, по стеночке стояло штук двадцать деревянных кроваток. В каждой из них копошился ребенок. Аннушка удивленно замерла на руках врача: никогда не видела так много детей сразу. В больнице в каждой палате было максимум по шесть человек, да и по возрасту ребята были разными. А тут как на подбор: все до года. Кто-то лежал безмолвно, уткнувшись лбом в решетку кровати, только изредка вздрагивая всем телом. Кто-то крутился с боку на бок, чтобы хоть чем-то себя занять. Кто-то плакал, безнадежно, протяжно. Кто-то стоял на четвереньках, раскачиваясь взад-вперед и подпевая себе «а-а-а-а», «а-а-а-а». И от этого заунывного пения становилось тоскливо и страшно.
Аннушку определили в свободную кроватку у окна. Рядом пустовала еще одна деревянная клетка. Все остальные места были заняты. По комнате, ворча себе под нос, ходила старая нянька. Она не успевала стаскивать со своих подопечных мокрые ползунки и надевать сухие штанишки. Стоило ей обойти всех по кругу, как оказывалось, что кто-то из группы успел уже снова напрудить. Распухшие от нагрузки ноги болели, думать старушка могла только об одном: как бы поскорее сесть и скинуть тапки, вытянуть натруженные ступни.