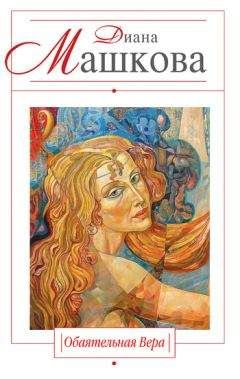– И как же вышла такая накладка?! – от неожиданного поворота событий Молчанова растерялась.
– Откуда нам знать? Спросите в опеке, они там чего-то напутали.
Пепельная блондинка так долго извинялась, взгляд у нее был такой несчастный и виноватый, что не было ни сил, ни желания сердиться на нее. Супругов напоили чаем с конфетами из личных запасов, пообещали звонить, как только появится ребенок со статусом «на усыновление», и проводили до порога.
– Маруся, – Олег нехотя забрался на водительское сиденье: предстояло не меньше шести часов новой пытки за рулем, – объясни мне хоть что-нибудь. Я ничего не понимаю…
– Что тут непонятного? – Молчанова от расстройства не могла говорить, сипела. – Детям уже нашли родителей. Это прекрасно. Главное, чтобы у них была семья.
– Ты мне другое объясни! – Он с тоской смотрел на девственно-белую дорогу. – Что это за происки? В России сотни тысяч сирот: бери, усыновляй! Но ведь не доберешься! Одних еще не оформили, а без документов нельзя. К другим ходят раз в месяц какие-то родственники, седьмая вода на киселе, которые забрать не могут и разлучать с ними никак. Третьи то ли затерялись в этих бюрократических джунглях, то ли заперты как в тюрьме. Мы с тобой хотим чего-то плохого, незаконного?
– Нет.
– Так почему нас гоняют с места на место? Не осталось у меня никакого ресурса: ни физического, ни душевного.
– Олег, прости меня…
– Ты-то при чем?
Обратный путь дался тяжело. Разговаривать было не о чем. Музыка раздражала. Маша настроилась на волну своей радиостанции и прикрыла глаза, слушая родные голоса. Как же она завидовала тем, кто мог, вставая утром с постели, думать о работе; тем, кто, засыпая, хотя бы примерно знал, что принесет завтрашний день.
Около дома, перегородив подъезд к крыльцу, стояла «Скорая помощь». Сердце Молчановой похолодело. Она выскочила из машины и, путаясь в длинных полах пальто, вбежала в дом. Первая и единственная мысль была о Дашке – пока они искали незнакомого ребенка, которому нужна помощь, ее собственная дочь угодила в беду!
Врач с медсестрой стояли, склонившись над диваном. На нем, похожая на тюленя в своем сером шелковом халате, лежала Машина мама.
– Вырастили, – со слезами на глазах прошептала старушка, – как я ее удержу?! Ушла. До сих пор нет…
Маша сползла по стене, села на корточки и, закрыв ладонями лицо, завыла как волчица.
Аннушка в доме ребенка первое время плакала много и часто. Лежала потихоньку – все равно занять себя было нечем – и выла, глядя в потолок. Время от времени ее еле слышный плач превращался в неистовый крик – всем коллективом сразу начинали голосить. Даже самые опытные няньки-воспитатели в такие моменты не выдерживали: старались быстрее куда-нибудь уйти и плотно закрывали за собой дверь. Женщины, которые выполняли свою работу на совесть и душой болели за детей, возвращались быстро. Снова начинали возиться с подопечными: переодевали, кормили, давали игрушки. А вот тех, кто оказался в доме ребенка случайно – волей несчастливой судьбы, – ждать детям приходилось долго. И делали они все с раздражением, через силу. Так, словно это сироты были виноваты во всех их невзгодах.
Маленькая Аня быстро научилась отличать одних от других. Когда дежурила тетя Люба и Валентина Ивановна, уборщица, можно было себе кое-что и позволить: громче обычного всплакнуть, потребовать внимания. Никто не наказывал, наоборот, подходили, жалели. Эти морщинистые, сгорбленные, чем-то похожие друг на друга старушки, хоть и ворчали без перерыва, но за детками смотрели хорошо. И комнату в чистоте содержали, и ребятишек мыли-подмывали-переодевали беспрестанно. Не то что черноволосая костлявая нянька, которая приходила сменить тетю Любу. Эту сорокалетнюю женщину, недовольную собственной женской судьбой и неискоренимой бедностью, все вокруг раздражало. На детей она орала без перерыва, пока никто этого не видел и не слышал, била их мокрыми ползунками по лицу, чтобы неповадно было мочить одежку. Но хуже всего приходилось тем, кто имел неосторожность в ее смену испачкать штаны. Хотя, чего уж там говорить, за исключением семимесячной Лизы и трехмесячного Павлика, которые страдали жуткими запорами и могли по трое суток держать все в себе, пока не придет медсестра и не сделает клизму, доставалось всем без исключения. Нянька, уловив неприятный запах, не спешила подмывать попу и менять ползунки. Ей хотелось, чтобы кожа проштрафившегося покрылась красными пятнами, начала саднить. Только когда боль становилась невыносимый и несчастный начинал орать как резаный, она несла его под кран. Совала под воду, даже не потрогав ее рукой – холодная или горячая. Даже, наоборот, специально крутила только один вентиль: красный или синий. Такой способ наказания за проступок, казалось, доставлял ей особое удовольствие. Из-за нее в группе все дети боялись мыться. Никто не знал, что получится в следующий раз: ожог от кипятка или онемение кожи от ледяной струи.
Только когда к малышам заглядывала врач или – того лучше – сам Иван Семенович, черноволосая становилась добренькой, прекращала свои изуверства. Начинала суетиться вокруг кроваток, называла детей ласковыми именами. Но чем дольше за ней наблюдали, тем страшнее она после мстила своим подопечным.
На ночь, когда никого из начальства поблизости не было, заматывала всех без исключения в пеленки, чтобы не шевелились и вели себя тихо. Неважно, три месяца малышу или десять. Дети постарше яростно сопротивлялись, не хотели быть скованными по рукам и ногам. Но нянька и тут находила выход – поверх пеленок обматывала малышей веревками, чтобы не раскрутились. А те непокорные, которые умудрялись выбраться и из этого кокона, сильно об этом жалели: их оставляли до утра голыми лежать на клеенке. Мало того. Чтобы не возились и не мешали спать другим, за щиколотки и запястья нянька приматывала бунтовщиков к перекладинам кроватки.
Поначалу и Аннушка боролась за свою свободу. Ручки, прижатые к телу пеленкой, быстро немели и начинали болеть. Хотелось любой ценой вытащить их наружу. Но после того как нянька несколько раз ловила ее за этим занятием и на всю ночь оставляла мерзнуть распятой в неестественной позе, девочка смирилась. Научилась не обращать внимания на болезненные ощущения: человек рано или поздно ко всему привыкает.
За три месяца в доме ребенка Аннушка стала другой. К девяти месяцам ее взгляд потускнел и теперь был направлен не на внешний мир, а словно внутрь себя. Она потеряла всякий интерес к окружающим людям, к происходящему вокруг. Лишь изредка ее внимание привлекали незнакомые лица – она скользила по ним взглядом и, быстро оценив безразличие пришедших, теряла к взрослым людям всякий интерес. Если в больнице она еще улыбалась взрослым в ответ на их ласки и добрые речи, если хотела понравиться, ждала, что ее возьмут на ручки, то в доме ребенка у нее не осталось ни надежд, ни желаний. Она больше не верила ни единому человеку. Только знала, что никому не нужна. Когда чувство пустоты становилось невыносимым, Аннушка принималась убаюкивать и утешать сама себя – вставала на четвереньки и качалась взад-вперед, напевая протяжно и тоскливо «а-а-а-а-а», «а-а-а-а-а».
Особенно тяжело стало после того, как забрали домой Ванюшку. Как обычно, утром пришла его мама, только не торопливая и издерганная, как обычно, перед работой, а веселая, легкая. Собрала сыночка, одела его во все новое, долго обнималась с тетей Любой и Валентиной Ивановной, оставила детям в подарок целых три пачки подгузников – невиданная роскошь. Няня с уборщицей всплакнули на радостях, что бабушка с дедушкой приняли Ванюшку. Оказывается, только одну фотографию его увидели, и сразу влюбились. Велели дочке срочно везти внука домой. Сама пусть закончит учебу, разберется с жильем, а потом заберет своего сыночка. Пока они его сами воспитывать будут.
Аннушка, глядя на сцену прощания, ревела навзрыд. Она больше не помнила мамин запах, не могла восстановить в воображении тех сладостных ощущений, которые испытывала у нее на руках, только чувство невосполнимой и тяжкой утраты разрывало ее изнутри. В отличие от Ванюшки, который по три раза в день видел маму, а теперь и вовсе собирался с ней вместе уйти, ей надеяться было не на что. Напуганные ее громким воем, все дети в группе присоединились к общему плачу. Даже Ванюшка – счастливый дуралей – скорчил скорбную мину, словно собирался зареветь. Конечно, ему этого не дали: мама схватила его в охапку и, нежно покачивая, вынесла вон. Навсегда.
Мальчик в соседней с Аннушкиной кроватке появился внезапно. Измученная одиночеством и тоской, она провалилась посреди дня в тревожный сон. А когда очнулась, рядом с ней сидел светловолосый вихрастый пацан с хитрой и настороженной мордашкой. Новенькие обычно подолгу плакали навзрыд, заставляя присоединиться к их реву целый хор голосов. Но не этот мальчишка. Он придвинулся к самому краю кроватки и, игнорируя всех остальных, не отрываясь смотрел на Аннушку. Потом вдруг ухватился за две перекладины и резво поднялся на ножки. Девочка продолжала лежать. В свои девять месяцев она даже и не пыталась вставать – сломанная когда-то ножка начинала неприятно ныть, стоило только опереться на нее. Девочка могла переворачиваться с боку на бок, умела подниматься на четвереньки, сидеть. Но ни ползать, ни стоять Аннушка не умела.